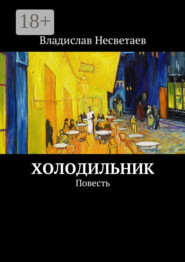По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гомоза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А у нас одно – больше не нужно.
Ржавая дверца тихонько скрипнула, и Егор Дмитриевич с Николаем Ивановичем медленно прошли на территорию. Смотритель лениво высунулся из окна своей каморки и, проводив их взглядом, лёг обратно на промятую койку.
Поднимались они на холм, с одной стороны которого открывался вид на город, а с другой – на голубоватое блестящее озеро. Небо прояснилось, и только где-то вдалеке высоко-высоко можно было разглядеть огромные курчавые белоснежные облака, медленно, лениво ползущие в ярком, до боли в глазах, пространстве. Кое-где у совсем заросших могил вырастали деревья и как бы прятали в своих зелёных лапах ссохшиеся поваленные кресты. То и дело над головами сновали шустрые воробьи. Видно, где-то здесь, в высокой траве, они вили гнёзда. Гомозин смотрел на них, и ему хотелось чувствовать такую же беззаботность, с которой они порхали над кладбищем. Они, верно, и не догадывались, что когда-нибудь умрут, и потому были легки, как ветер.
Не доходя до верхней точки холма метров двести, Николай Иванович на развилке повёл Гомозина влево, к березняку. Они пробирались по грязной узкой тропинке через заросли крапивы, то и дело теряя равновесие и опираясь на ещё мокрые от ночного ливня штыри оградок. Чуть поодаль, справа, у соседнего ряда, молодой парень в камуфляжных штанах, стоя у свежевырытой могилы и опираясь на черенок лопаты, о чём-то шептался с молоденькой хохотливой девушкой. Егору Дмитриевичу эта картина сначала показалась жуткой и крайне противоестественной, но чем дольше он глядел на влюблённых друг в друга молодых людей, тем сильнее в нём вызревало чувство спокойствия и умиротворения. Он с удивлением задумался: как могильщик, чьё ремесло – смерть, может быть так беззаботен и далёк от неё, старухи с косой? И главное, эта девушка с красивыми вьющимися волосами и открытым счастливым лицом – как она может так спокойно стоять в окружении могил и одновременно кокетничать, улыбаться и любить? Откуда в них берётся эта животворящая сила, убивающая страх и тоску? Неужели её источник – поверхностность, простота и беззаботность? «Наверное, так, – решил Гомозин и задумался: – Так почему я, говоря и зная почти наверняка, что нужно просто жить и ни о чём не думать, этого не делаю, а продолжаю, как голодный волк, гоняться за тенью?»
Тихий смех этой юной красавицы походил на воробьиный щебет и в общем мерном шелесте кладбища звенел живо, как родник, бьющий из-под песка в пустыне.
Николай Иванович остановился у голубой оградки крайней у обрыва могилы и стал читать имена на памятниках.
– Не твои же?
– Нет. – Мельком взглянув на гранитные надписи, Егор Дмитриевич обратно перевёл взгляд на влюблённых. – Мои Демиховы.
– Промахнулся, что ли? – спросил сам себя Николай Иванович.
– Видно, так.
– Ребята! – крикнул старик.
– Да? – не снимая улыбки с лица, отозвался парень в камуфляжных штанах.
– Подскажите, что за фамилия на том крестике? – Николай Иванович указал пальцем на большой гранитный памятник.
– Демихов Тимофей Юрьевич, – прочёл парень.
– Точно промахнулся, – клацнул языком старик. – Спасибо! – поблагодарил он парня. – Ты погляди, Егорка, компас барахлит.
– Это на вчерашние дрожжи свежий воздух лёг, – улыбнулся Гомозин и, развернувшись, пошёл обратно к магистральной тропе. Николай Иванович шёл за ним, что-то бубня себе под нос.
Оказавшись, наконец, у могилы своих стариков, Егор Дмитриевич испытал трепет. Обойдя его, Николай Иванович первым ступил за оградку и по-хозяйски, со знанием дела смахнув паутину, пыль и опавшие листья с крестов, вздохнув, сел на лавочку. Гомозин нерешительно подошёл к могиле Тимофея Юрьевича Демихова.
– Здоров, дед, – кивнул он, смущённо краем глаза поглядывая на Николая Ивановича. – Баба… – хотел ещё что-то сказать он, но, почувствовав себя глупо, решил промолчать. Он недолго посмотрел в родные лица, глядящие на него из овалов выцветших рамок, и, погладив гранит, полез в карман за секатором.
Гомозин чувствовал, что к горлу подступает ком, и, чтобы не допустить слёз, решил заняться конкретной механической работой. Срезая секатором плотные стебли уральских трав и кустарничков, он старался не глядеть на памятники и копошился в земле, как ребёнок в песочнице, откидывая в сторону палочки, бычки и сухие листья. На дядькиной могиле вырос кустик крапивы, и Егор Дмитриевич аккуратно срезал его, подобравшись к нему так, чтобы не обжечься. Срезанные сорняки он горой накидывал у выхода с участка под ноги тяжело, хрипло дышащему Николаю Ивановичу.
Закончив дело, Гомозин встал с коленей и, не взглянув на кресты, обратился к старику:
– Отдышались, Николай Иванович?
– Ты всё, что ли? – удивился тот.
– А чего тянуть? Убрались – можно идти, – пытаясь не дрожать голосом, сказал Егор Дмитриевич.
– Давай хоть выкурим по одной. Садись. – Он подвинулся, приглашая Гомозина сесть.
– Это можно, – согласился тот.
И, сидя на ещё влажной с ночи скамейке, они, каждый думая о своём, тихо закурили. Гомозин всё смотрел на пару молодых людей, стоявших в пятнадцати метрах от него, и пытался нащупать их настроение. Они тоже поглядывали украдкой на него, видно, тяготясь его пристальным рассеянным взглядом; а он, видно, и не чувствовал, что буквально пялится на них, как-то странно выставляя ощетинившийся подбородок вперёд. С каждой затяжкой по телу пробегало слабое электричество, не то туманящее рассудок, не то его бодрящее.
– Не сильно заросли, – сказал, выдыхая дым, Николай Иванович.
– Ну да. Височки разве что подровнять, – ответил Гомозин.
– Ноги промокли?
– У меня нет, будто сухо. Колени вымазал. А вы промокли, что ли?
– Да будто тоже ничего. Полы разве что.
Егору Дмитриевичу была приятна компания Николая Ивановича. Находясь рядом с ним, он чувствовал какую-то защищённость. Казалось, будто старик всё на свете знает, всё на свете пережил, и, если он чувствует себя спокойно и хорошо, чего же тогда самому тяготиться? В детстве он так же смотрел на мать – как на некую божественную сущность, всё знающую и во всём могущую помочь. И ничего не было страшно. А когда он подрос и стал понимать, что знает и понимает намного больше неё, что видел то, о чём она и подумать не могла, её божественные свойства в его глазах стали исчезать и ему сделалось одиноко. Тогда он стал во всём неосознанно искать Бога, чтобы он заменил ему всемогущую маму. И даже находил его во всяких поразительных совпадениях, случайных встречах и удачах. Но когда он встретил свою Лену, нужда в Боге у него отпала. Она взяла на себя функции божества. Она не была глубоким интеллектуалом, не была ни профессором, ни учёным, но её бытовая жизненная мудрость, её простота и жизнелюбие наполняли всю жизнь Егора Дмитриевича, и ему никогда не было ни страшно, ни одиноко. Она была его Богом, который всегда поможет, поддержит и подтолкнёт на добро, была его моральным камертоном, звенящим на высшей нравственной ноте, открывающим для него мир добродетели. И с её смертью для Гомозина умер Бог. Всякий Бог. И нового он не нашёл и даже не пытался найти. Он понял, смирился с тем, что каждый, и он в частности, – сам за себя, что никто не проведёт его по жизни за ручку, что он пришёл в этот мир один, проживёт в нём один и умрёт один.
И вот теперь, сидя возле большого, сильного человека, он вновь стал смутно ощущать близость этой давно покинувшей его божественной сущности. Она будто витала возле него и дразнила, пряча от него кладезь нравственной силы и мудрости. Гомозин понимал, наверное, что живёт примерно правильно, как полагается, но его вечно грызли скука, тоска и уныние – а они, как он думал, появляются только от конфликта с совестью и самим собой, и, значит, он что-то делает не так. И вот теперь он чувствовал, что если бы Николай Иванович одобрил, похвалил бы его образ жизни, то он успокоился и стал бы жить в гармонии с собой; но старик не только не одобрял его быт и взгляды – он, кажется, противился им, но из вежливости скрывал это. Тогда лучше бы, думал Гомозин, он сказал всё как есть, направил бы куда нужно, нашёл бы нужные слова; однако Николай Иванович будто специально игнорировал его, дразня своим счастливым лицом, и давал понять, что так просто, разговорами и пинком под зад, счастье не построишь. Гомозин надеялся, что старик испытывает его всей этой наносной простотой и озорством, что пытается прощупать и понять его, потому что ему было до него дело. И Егор Дмитриевич почему-то был уверен, что этому сильному человеку было дело до всякого. Он вдруг со всей ясностью почувствовал страх от того, что не сумел в своё время найти эти же свойства в родном отце – а они в нём наверняка были – и считал его просто странным, смешным человечком.
Гомозин не заметил, как истлела его сигарета, и Николай Иванович, докурив свою, пригласил его пройти до своих родных. Егор Дмитриевич, не посмотрев на могилы, закрыл за собой оградку и пошёл со стариком на другой участок кладбища, неся тюк сорной травы. Медленно шагая, наступая в глубокие следы этого грузного человека, он стал ощущать, что, сдавшись, поддаётся его безграничному обаянию.
Николай Иванович, стоя у могил родителей, хмурил брови и слегка шевелил щёками, будто что-то жевал. Он пристально смотрел на памятники, и взгляд его сильно заинтересовал Гомозина. Егор Дмитриевич прочёл в глазах старика злобную подозрительность, будто они с минуты на минуту ожидали увидеть коварного злодея. Аккуратно прибранные могилки не нуждались в «стрижке»: видно, Николай Иванович часто к ним захаживал. «Неужели, – думал Гомозин, – он всегда так смотрит на эти памятники как на предателей?»
– Хороша была. Да? – обратился он к Егору Дмитриевичу, глядя на портрет матери.
– Красивая женщина, – согласился тот.
– Видишь как? Сорок лет. Красоту надолго не дают, – в задумчивости закачал головой старик.
– Хорошо вы тут всё устроили, – закачавшись на месте, на выдохе выпалил Гомозин.
– Пойдём, наверное. Насмотрелись.
– Пойдёмте.
И они молча пошли к выходу, каждый думая о своём.
4. Добрый рыбак
Деревня была выстроена на склоне соседнего с кладбищенским холма. По большей части дома и участки пребывали в запустении; почти половину земель хозяева побросали и уехали в поисках более благополучной жизни. Вид на город, торчащий из долины серыми кирпичами и трубами заброшенного завода, вызывал двоякое чувство. Гомозин будто смотрел на красивую женщину, с ног до головы вымазанную в грязи. Глядя на Сим через частокол низкой покосившейся изгороди, символически отделявшей тропу от обрыва, Егор Дмитриевич думал, что для полного ощущения лагеря только колючей проволоки не хватает. Когда он приезжал сюда ребёнком, всё будто было иначе. Пребывание здесь не вызывало сосущее чувство уныния и жалости к людям, вынужденным жить здесь. Напротив, город казался волшебным, сказочным, невозможным. Расположенный в долине, окружённой зелёными холмами и отвесными скалами у озера, он виделся уютным, сокрытым от глаз мира местом, где человек робко и словно с трепетом, чтобы не потревожить хрупкую природу, обустроил свой быт так, чтобы природа и не заметила его следов. Теперь же Сим походил на тонущий корабль, команда которого, спасаясь бегством, устроила самый настоящий погром, беспорядок. Целые пятиэтажные дома, наполовину опустевшие, с давно выбитыми окнами, рассыпались буквально на глазах (был случай, когда случайному прохожему на голову упал кирпич). Свалки, которые никто и не думал утилизировать, были завалены старой разбитой мебелью, посудой и предметами быта. Егор Дмитриевич не мог понять, за счёт чего город до сих пор живёт, и решил, что лет через десять он совсем опустеет, а через тридцать природа приберёт его и предаст забвению, как прибрала забытые кресты на кладбище. И так этому месту было бы лучше. Но город продолжал цепляться за жизнь, и с каждым годом его способы выживания всё сильнее его же уродовали. Поломанное не чинили, а пытались спрятать за дешёвыми профлистами или сайдингом; рассыпающиеся дома ещё разве что скотчем не пробовали склеить.
Однако чем дальше Гомозин с Николаем Ивановичем проходили вглубь деревни, тем тягостное ощущение, вызванное видом города, становилось тупее. Чем выше они поднимались, тем дома становились свежее, крепче и в целом приличнее. Местами, конечно, встречались пустыри с гнилыми сараями, но теперь они казались исключением, а не правилом. Деревня была ощутимо живее города. Кто-то набирал воду из колонки, кто-то помогал соседу задом въехать на участок и не зацепить забор, кто-то, счастливый, с пакетами наперевес, шёл из магазина; проходящие мимо приветствовали друг друга, интересовались здоровьем, работой, иные даже обсуждали мировые новости и высказывали суждения. Егора Дмитриевича удивляло, что местных может интересовать что-то кроме корки хлеба и того, дадут ли осенью отопление.
– Узнаёшь хоть? – обратился к нему Николай Иванович.
– Будто что-то похожее есть. А вот этой собачки, кажется, раньше не было. – Он указал на пробегающую мимо дворнягу.
– Это у соседей сука недавно ощенилась – бегают теперь, – не понял юмора старик. – Не смотри на него, а то не отвяжется.
Гомозин, улыбнувшись, увёл взгляд от любопытно глядящих на него пары глаз, и пёс, только он это сделал, клацнув зубами, закрыл пасть и, развернувшись, пошёл за ним.
– Ух, чёрт! Прожорливые, гады! – нахмурился Николай Иванович и машинально ускорил шаг.
Ржавая дверца тихонько скрипнула, и Егор Дмитриевич с Николаем Ивановичем медленно прошли на территорию. Смотритель лениво высунулся из окна своей каморки и, проводив их взглядом, лёг обратно на промятую койку.
Поднимались они на холм, с одной стороны которого открывался вид на город, а с другой – на голубоватое блестящее озеро. Небо прояснилось, и только где-то вдалеке высоко-высоко можно было разглядеть огромные курчавые белоснежные облака, медленно, лениво ползущие в ярком, до боли в глазах, пространстве. Кое-где у совсем заросших могил вырастали деревья и как бы прятали в своих зелёных лапах ссохшиеся поваленные кресты. То и дело над головами сновали шустрые воробьи. Видно, где-то здесь, в высокой траве, они вили гнёзда. Гомозин смотрел на них, и ему хотелось чувствовать такую же беззаботность, с которой они порхали над кладбищем. Они, верно, и не догадывались, что когда-нибудь умрут, и потому были легки, как ветер.
Не доходя до верхней точки холма метров двести, Николай Иванович на развилке повёл Гомозина влево, к березняку. Они пробирались по грязной узкой тропинке через заросли крапивы, то и дело теряя равновесие и опираясь на ещё мокрые от ночного ливня штыри оградок. Чуть поодаль, справа, у соседнего ряда, молодой парень в камуфляжных штанах, стоя у свежевырытой могилы и опираясь на черенок лопаты, о чём-то шептался с молоденькой хохотливой девушкой. Егору Дмитриевичу эта картина сначала показалась жуткой и крайне противоестественной, но чем дольше он глядел на влюблённых друг в друга молодых людей, тем сильнее в нём вызревало чувство спокойствия и умиротворения. Он с удивлением задумался: как могильщик, чьё ремесло – смерть, может быть так беззаботен и далёк от неё, старухи с косой? И главное, эта девушка с красивыми вьющимися волосами и открытым счастливым лицом – как она может так спокойно стоять в окружении могил и одновременно кокетничать, улыбаться и любить? Откуда в них берётся эта животворящая сила, убивающая страх и тоску? Неужели её источник – поверхностность, простота и беззаботность? «Наверное, так, – решил Гомозин и задумался: – Так почему я, говоря и зная почти наверняка, что нужно просто жить и ни о чём не думать, этого не делаю, а продолжаю, как голодный волк, гоняться за тенью?»
Тихий смех этой юной красавицы походил на воробьиный щебет и в общем мерном шелесте кладбища звенел живо, как родник, бьющий из-под песка в пустыне.
Николай Иванович остановился у голубой оградки крайней у обрыва могилы и стал читать имена на памятниках.
– Не твои же?
– Нет. – Мельком взглянув на гранитные надписи, Егор Дмитриевич обратно перевёл взгляд на влюблённых. – Мои Демиховы.
– Промахнулся, что ли? – спросил сам себя Николай Иванович.
– Видно, так.
– Ребята! – крикнул старик.
– Да? – не снимая улыбки с лица, отозвался парень в камуфляжных штанах.
– Подскажите, что за фамилия на том крестике? – Николай Иванович указал пальцем на большой гранитный памятник.
– Демихов Тимофей Юрьевич, – прочёл парень.
– Точно промахнулся, – клацнул языком старик. – Спасибо! – поблагодарил он парня. – Ты погляди, Егорка, компас барахлит.
– Это на вчерашние дрожжи свежий воздух лёг, – улыбнулся Гомозин и, развернувшись, пошёл обратно к магистральной тропе. Николай Иванович шёл за ним, что-то бубня себе под нос.
Оказавшись, наконец, у могилы своих стариков, Егор Дмитриевич испытал трепет. Обойдя его, Николай Иванович первым ступил за оградку и по-хозяйски, со знанием дела смахнув паутину, пыль и опавшие листья с крестов, вздохнув, сел на лавочку. Гомозин нерешительно подошёл к могиле Тимофея Юрьевича Демихова.
– Здоров, дед, – кивнул он, смущённо краем глаза поглядывая на Николая Ивановича. – Баба… – хотел ещё что-то сказать он, но, почувствовав себя глупо, решил промолчать. Он недолго посмотрел в родные лица, глядящие на него из овалов выцветших рамок, и, погладив гранит, полез в карман за секатором.
Гомозин чувствовал, что к горлу подступает ком, и, чтобы не допустить слёз, решил заняться конкретной механической работой. Срезая секатором плотные стебли уральских трав и кустарничков, он старался не глядеть на памятники и копошился в земле, как ребёнок в песочнице, откидывая в сторону палочки, бычки и сухие листья. На дядькиной могиле вырос кустик крапивы, и Егор Дмитриевич аккуратно срезал его, подобравшись к нему так, чтобы не обжечься. Срезанные сорняки он горой накидывал у выхода с участка под ноги тяжело, хрипло дышащему Николаю Ивановичу.
Закончив дело, Гомозин встал с коленей и, не взглянув на кресты, обратился к старику:
– Отдышались, Николай Иванович?
– Ты всё, что ли? – удивился тот.
– А чего тянуть? Убрались – можно идти, – пытаясь не дрожать голосом, сказал Егор Дмитриевич.
– Давай хоть выкурим по одной. Садись. – Он подвинулся, приглашая Гомозина сесть.
– Это можно, – согласился тот.
И, сидя на ещё влажной с ночи скамейке, они, каждый думая о своём, тихо закурили. Гомозин всё смотрел на пару молодых людей, стоявших в пятнадцати метрах от него, и пытался нащупать их настроение. Они тоже поглядывали украдкой на него, видно, тяготясь его пристальным рассеянным взглядом; а он, видно, и не чувствовал, что буквально пялится на них, как-то странно выставляя ощетинившийся подбородок вперёд. С каждой затяжкой по телу пробегало слабое электричество, не то туманящее рассудок, не то его бодрящее.
– Не сильно заросли, – сказал, выдыхая дым, Николай Иванович.
– Ну да. Височки разве что подровнять, – ответил Гомозин.
– Ноги промокли?
– У меня нет, будто сухо. Колени вымазал. А вы промокли, что ли?
– Да будто тоже ничего. Полы разве что.
Егору Дмитриевичу была приятна компания Николая Ивановича. Находясь рядом с ним, он чувствовал какую-то защищённость. Казалось, будто старик всё на свете знает, всё на свете пережил, и, если он чувствует себя спокойно и хорошо, чего же тогда самому тяготиться? В детстве он так же смотрел на мать – как на некую божественную сущность, всё знающую и во всём могущую помочь. И ничего не было страшно. А когда он подрос и стал понимать, что знает и понимает намного больше неё, что видел то, о чём она и подумать не могла, её божественные свойства в его глазах стали исчезать и ему сделалось одиноко. Тогда он стал во всём неосознанно искать Бога, чтобы он заменил ему всемогущую маму. И даже находил его во всяких поразительных совпадениях, случайных встречах и удачах. Но когда он встретил свою Лену, нужда в Боге у него отпала. Она взяла на себя функции божества. Она не была глубоким интеллектуалом, не была ни профессором, ни учёным, но её бытовая жизненная мудрость, её простота и жизнелюбие наполняли всю жизнь Егора Дмитриевича, и ему никогда не было ни страшно, ни одиноко. Она была его Богом, который всегда поможет, поддержит и подтолкнёт на добро, была его моральным камертоном, звенящим на высшей нравственной ноте, открывающим для него мир добродетели. И с её смертью для Гомозина умер Бог. Всякий Бог. И нового он не нашёл и даже не пытался найти. Он понял, смирился с тем, что каждый, и он в частности, – сам за себя, что никто не проведёт его по жизни за ручку, что он пришёл в этот мир один, проживёт в нём один и умрёт один.
И вот теперь, сидя возле большого, сильного человека, он вновь стал смутно ощущать близость этой давно покинувшей его божественной сущности. Она будто витала возле него и дразнила, пряча от него кладезь нравственной силы и мудрости. Гомозин понимал, наверное, что живёт примерно правильно, как полагается, но его вечно грызли скука, тоска и уныние – а они, как он думал, появляются только от конфликта с совестью и самим собой, и, значит, он что-то делает не так. И вот теперь он чувствовал, что если бы Николай Иванович одобрил, похвалил бы его образ жизни, то он успокоился и стал бы жить в гармонии с собой; но старик не только не одобрял его быт и взгляды – он, кажется, противился им, но из вежливости скрывал это. Тогда лучше бы, думал Гомозин, он сказал всё как есть, направил бы куда нужно, нашёл бы нужные слова; однако Николай Иванович будто специально игнорировал его, дразня своим счастливым лицом, и давал понять, что так просто, разговорами и пинком под зад, счастье не построишь. Гомозин надеялся, что старик испытывает его всей этой наносной простотой и озорством, что пытается прощупать и понять его, потому что ему было до него дело. И Егор Дмитриевич почему-то был уверен, что этому сильному человеку было дело до всякого. Он вдруг со всей ясностью почувствовал страх от того, что не сумел в своё время найти эти же свойства в родном отце – а они в нём наверняка были – и считал его просто странным, смешным человечком.
Гомозин не заметил, как истлела его сигарета, и Николай Иванович, докурив свою, пригласил его пройти до своих родных. Егор Дмитриевич, не посмотрев на могилы, закрыл за собой оградку и пошёл со стариком на другой участок кладбища, неся тюк сорной травы. Медленно шагая, наступая в глубокие следы этого грузного человека, он стал ощущать, что, сдавшись, поддаётся его безграничному обаянию.
Николай Иванович, стоя у могил родителей, хмурил брови и слегка шевелил щёками, будто что-то жевал. Он пристально смотрел на памятники, и взгляд его сильно заинтересовал Гомозина. Егор Дмитриевич прочёл в глазах старика злобную подозрительность, будто они с минуты на минуту ожидали увидеть коварного злодея. Аккуратно прибранные могилки не нуждались в «стрижке»: видно, Николай Иванович часто к ним захаживал. «Неужели, – думал Гомозин, – он всегда так смотрит на эти памятники как на предателей?»
– Хороша была. Да? – обратился он к Егору Дмитриевичу, глядя на портрет матери.
– Красивая женщина, – согласился тот.
– Видишь как? Сорок лет. Красоту надолго не дают, – в задумчивости закачал головой старик.
– Хорошо вы тут всё устроили, – закачавшись на месте, на выдохе выпалил Гомозин.
– Пойдём, наверное. Насмотрелись.
– Пойдёмте.
И они молча пошли к выходу, каждый думая о своём.
4. Добрый рыбак
Деревня была выстроена на склоне соседнего с кладбищенским холма. По большей части дома и участки пребывали в запустении; почти половину земель хозяева побросали и уехали в поисках более благополучной жизни. Вид на город, торчащий из долины серыми кирпичами и трубами заброшенного завода, вызывал двоякое чувство. Гомозин будто смотрел на красивую женщину, с ног до головы вымазанную в грязи. Глядя на Сим через частокол низкой покосившейся изгороди, символически отделявшей тропу от обрыва, Егор Дмитриевич думал, что для полного ощущения лагеря только колючей проволоки не хватает. Когда он приезжал сюда ребёнком, всё будто было иначе. Пребывание здесь не вызывало сосущее чувство уныния и жалости к людям, вынужденным жить здесь. Напротив, город казался волшебным, сказочным, невозможным. Расположенный в долине, окружённой зелёными холмами и отвесными скалами у озера, он виделся уютным, сокрытым от глаз мира местом, где человек робко и словно с трепетом, чтобы не потревожить хрупкую природу, обустроил свой быт так, чтобы природа и не заметила его следов. Теперь же Сим походил на тонущий корабль, команда которого, спасаясь бегством, устроила самый настоящий погром, беспорядок. Целые пятиэтажные дома, наполовину опустевшие, с давно выбитыми окнами, рассыпались буквально на глазах (был случай, когда случайному прохожему на голову упал кирпич). Свалки, которые никто и не думал утилизировать, были завалены старой разбитой мебелью, посудой и предметами быта. Егор Дмитриевич не мог понять, за счёт чего город до сих пор живёт, и решил, что лет через десять он совсем опустеет, а через тридцать природа приберёт его и предаст забвению, как прибрала забытые кресты на кладбище. И так этому месту было бы лучше. Но город продолжал цепляться за жизнь, и с каждым годом его способы выживания всё сильнее его же уродовали. Поломанное не чинили, а пытались спрятать за дешёвыми профлистами или сайдингом; рассыпающиеся дома ещё разве что скотчем не пробовали склеить.
Однако чем дальше Гомозин с Николаем Ивановичем проходили вглубь деревни, тем тягостное ощущение, вызванное видом города, становилось тупее. Чем выше они поднимались, тем дома становились свежее, крепче и в целом приличнее. Местами, конечно, встречались пустыри с гнилыми сараями, но теперь они казались исключением, а не правилом. Деревня была ощутимо живее города. Кто-то набирал воду из колонки, кто-то помогал соседу задом въехать на участок и не зацепить забор, кто-то, счастливый, с пакетами наперевес, шёл из магазина; проходящие мимо приветствовали друг друга, интересовались здоровьем, работой, иные даже обсуждали мировые новости и высказывали суждения. Егора Дмитриевича удивляло, что местных может интересовать что-то кроме корки хлеба и того, дадут ли осенью отопление.
– Узнаёшь хоть? – обратился к нему Николай Иванович.
– Будто что-то похожее есть. А вот этой собачки, кажется, раньше не было. – Он указал на пробегающую мимо дворнягу.
– Это у соседей сука недавно ощенилась – бегают теперь, – не понял юмора старик. – Не смотри на него, а то не отвяжется.
Гомозин, улыбнувшись, увёл взгляд от любопытно глядящих на него пары глаз, и пёс, только он это сделал, клацнув зубами, закрыл пасть и, развернувшись, пошёл за ним.
– Ух, чёрт! Прожорливые, гады! – нахмурился Николай Иванович и машинально ускорил шаг.