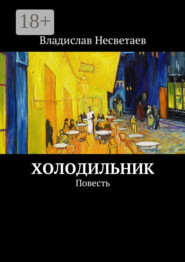По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гомоза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, такого не было, – сказал Николай Иванович.
– Ещё будет.
– А мы вам стеклопакеты поставим, – предложил Гомозин.
– Ох, Боже упаси! – замахала руками Лидия Тимофеевна. – Не надо нам такого добра. Люське сын поставил в дом – она и угорела.
– Это она с задвижкой не справилась, – поправил Лидию Тимофеевну Николай Иванович.
– А были бы простые окна – так щели бы были; соседи бы дымок увидали.
– Ну ладно гадать. Что будет, того не миновать.
Так просидели они до трёх часов. Много ели, пили. Лидия Тимофеевна, охмелев, сама сходила за унесённым ею же графином, и в два подхода он опустел. Потом был чай с молоком, мёдом, пряниками и пастилой. Старушка всё ворчала на Егора Дмитриевича за то, что он приехал без предупреждения: она бы шарлотку испекла бы и кролика потушила. Николай Иванович развлекал публику всякими историями из своего прошлого. Лидия Тимофеевна на некоторых (где были голые люди или много алкоголя) показательно морщилась и плевалась, но всё же не могла скрыть своего интереса к этим рассказам, хоть и слышала их уже раз по десять. Она скрытно, хитро улыбалась и следила за реакцией сына, всякий раз радуясь, когда он заливался хохотом.
– А расскажи, Коль, а Коль! – разгорячившись, жадно просила она, не замечая вылетающих изо рта слюней. – Коль! Коля! Расскажи, как вы Донец переплывали!
И Николай Иванович рассказывал, как голый Генка Скурихин в апреле месяце переплывал реку, а за ним по мосту бежало пять пьяных человек с двумя бутылками водки и одеждой Генки. А старушка вечно перебивала Николая Ивановича, напоминая ему, что было не так, а как-то иначе, – старик вступал с ней в спор, как было на самом деле, а потом надувался и говорил:
– Рассказывай тогда сама, раз лучше помнишь.
– Ну всё, всё, не ссорьтесь, – разнимал их улыбающийся Гомозин.
После застолья Николай Иванович решил устроить гостю небольшой концерт. Он достал баян из кладовки и, ловко управляясь с мелкими кнопочками, заиграл, запел.
Гомозину было неловко. Ему казалось, будто опьяневшие старики выслуживались перед ним, стараясь наполнить каждую минуту его пребывания здесь, у них дома, чем-то интересным, захватывающим, словно он приехал не к родной матери, а в гости к малознакомым людям. Он хотел как-то сообщить им, что не нужно ему концертов, не нужно нескончаемого шума, что ему хорошо просто быть здесь, быть рядом, но не находил подходящих моментов и слов. И с каждой минутой Егор Дмитриевич от этого всё больше скучал, а старики от этого всё больше пытались его веселить, вероятно, опасаясь, чтобы он не уехал. Они тяготились, когда Егор Дмитриевич пытался что-то рассказать им о себе и своей жизни. В них укреплялось какое-то едва осознаваемое ощущение, что он делает это через силу, против воли, лишь бы их чем-то занять. И казалось им, что делает он это напрасно, что им этого не нужно, что достаточно просто близости, взглядов, общего пространства, воздуха, общего стола. Они пытались отвлечь его от этих, как им казалось, душных, тяжёлых воспоминаний о Москве, любви и работе с помощью нескончаемого развлечения. Лидия Тимофеевна, пока Николай Иванович играл на баяне, бегала по квартире и приносила сыну всякие безделицы и фотографии. Егору Дмитриевичу всё сложнее было изображать умиление. Глядя на очередную фотографию, он машинально улыбался матери, даже не спрашивая, кто это там стоит в первом ряду у бордюра, а Лидия Тимофеевна, забрав снимок, давала ему новый.
– Узнаёшь? А? Дедушка Миша? Помнишь? Дядька мой, – говорила она.
– Ага, – кивал Гомозин.
И Николай Иванович заводил очередную песню.
Издалека долго Течёт река Волга,
Течёт река Волга, Конца и края нет.
– Дядя Коль, – сказал, наконец, Гомозин, когда старик кончил петь, – ты отдохни, наверное, да пойдём на могилки сходим.
– А чего мне отдыхать? Пошли, – резво отозвался Николай Иванович, поднимаясь с места с баяном наперевес.
– Да нет-нет, ты отдышись, миленький, а то в самом деле богу душу отдашь.
– Ну посиди-посиди с полчасика, – сказала ему старушка. Она сама сильно устала. – Пойдём полежим малость.
И старик со старухой ушли в спальню, где оба через три минуты заснули. Гомозин зашёл к ним и увидел две храпящие распластанные на двуспальной кровати фигуры с истощёнными лицами и широко разинутыми ртами. Егору Дмитриевичу сладко было смотреть на них. Глядя на них, он будто сам отдыхал, приходил в себя.
Постояв недолго в дверном проёме спальни, Гомозин пошёл разбирать свой нетяжёлый чемодан. Вытаскивая из него свои рубашки, футболки, трусы и носки, он вдруг понял, что ничего не привёз матери и Николаю Ивановичу в качестве сувенира. Лидия Тимофеевна – та, бедная, чуть не каждый месяц отправляет ему что-то по почте. Последний раз вот отправила проигрыватель с пластинками и толстенную кулинарную книгу пятьдесят шестого года издания. По осени шлёт консервацию: огурчики, помидоры, салаты, патиссоны, икру, фруктовое пюре, варенья, джемы. К годовщинам смерти отца посылает его вещи. Дмитрий Константинович был наивным, легко увлекаемым человеком, но не от слабого ума (напротив, он был очень умным мужчиной), а от глубокой чувствительности и веры в людей. И, влекомый этим своим свойством, он всю жизнь занимался коллекционированием ненужных никому и ему в частности вещей. Когда началась горбачёвская антиалкогольная кампания, Дмитрий Константинович первым из своего окружения вылил всю коллекцию крепкого алкоголя в раковину и разжился нескольким десятков значков «Общества борьбы за трезвость». Проходя мимо помойки или свалки, он всякий раз останавливался и изучал вещи, выкинуть которые непосредственно в контейнеры людям было жалко, и часто он притаскивал эти вещи домой. Чаще всего это были книги, но бывали предметы и помассивнее. Однажды он принёс домой здоровенный бюст Лермонтова, отколотый у основания. Гомозин на всю жизнь запомнил отца, с трепетом приклеивающего к голове Михаила Юрьевича косо слепленное гипсовое основание. Для сына Дмитрий Константинович так и остался не до конца понятым смешным человечком, сдувающим пылинки с ржавых значков и банок, сентиментальным, или даже сердобольным, борцом за наивнейшую правду: мир, добро и процветание; в памяти Гомозина он остался слабым мужчиной, неспособным причинить вреда ни одной твари, добрым хомяком-накопителем. После смерти мужа Лидия Тимофеевна решила покинуть Москву и поселиться в квартире своего давно скончавшегося брата Юры, где она живёт и по сей день. Испугавшись, что Егор, оставшись наедине с отцовскими вещами, избавится от них, заплатив немало денег, она увезла их с собой в Сим и теперь, на старости лет, зачем-то шлёт их обратно в Москву. Гомозин понимал, какие чувства он должен бы был испытывать, получая очередную посылку от матери. Ему думалось, что это должно было быть какое-то сладкое чувство тоски или ностальгии, смешанное с умилением. И Лидия Тимофеевна думала, что сын, распечатывая коробки с книгами, альбомами, пластинками и всякой всячиной, радуется и на душе его становится тепло. Но на деле Егор Дмитриевич испытывал лишь раздражение, забирая посылки из отделения, торча за ними в очереди, принося их домой и иногда распечатывая; а принимал он их лишь затем, чтобы их не вернули обратно матери и она не обиделась. Бывало, в дурные дни он, даже не полюбопытствовав, что там отправила мать, оставлял коробку у ближайшей помойки. Наверное, единственной вещью, которая ему действительно понадобилась, был недавний виниловый проигрыватель. Донёс его Егор Дмитриевич до дома лишь потому, что мать прожужжала ему все уши своими опасениями, как бы, доставляя его, грузчики ничего не разбили.
Разложив вещи по полкам шифоньера, Гомозин оглядел стены гостиной и, усмехнувшись, подумал, что большинство развешанных на них фотографий, рельефов, картин и вышитых узоров скоро будут ждать его в почтовом отделении в Москве. Он вытащил из бокового кармана чемодана закрытую пачку сигарет и, зайдя на цыпочках в спальню, чтобы удостовериться, что старики спят, вышел на балкон покурить.
Курил он редко. В особых случаях, как он это сам для себя называл. Что это за случаи, объяснить Егор Дмитриевич вряд ли бы смог; он просто чувствовал, что непосредственно сейчас можно покурить. Наверное, просто хотелось.
Егор Дмитриевич стоял на грязном полу в тапочках и накинутом на плечи плаще и, медленно затягиваясь сигаретой, мелко трясся. Он смотрел на женщину в леопардовом пуховике – видно, вернувшуюся после своих дел, – и изучал её поведение. Она крутилась за косым бордюром у железной дуги для лазания и, вертя зонтик в руке, быстро курила. Вела она себя нервно и рассеянно. Она долго не замечала сбившуюся прядь мокрых волос, закрывшую ей левый глаз, но как только осознала это, быстро потянулась к ней сначала рукой с зонтиком, а затем, едва кольцевая веревочка соскользнула по предплечью к локтю, быстро опустила её и поправила прядь рукой с сигаретой. В полностью показавшемся лице Гомозин разглядел выражение раздражённой усталости. Его особенно заинтересовали глаза этой женщины. Щедро обведённые по кругу синими тенями, они были невероятно подвижными. Брови над ними то и дело поднимались без видимых причин, а веки часто опускались, будто глаза сохли от ветра. Сигарету она держала пальцами с настолько давно приклеенными на них фиолетовыми пластмассками, что натуральный ноготь, казалось, составлял половину от общей длины. Кисти рук выдавали её возраст. Сухие, почерневшие в местах стыка фаланг, костлявые, в мелкой ряби и зелёных жилках, они походили на ветки. Гомозин подумал, что ей не меньше пятидесяти. Наблюдая за ней, он ловил себя на мысли, что этот совсем незнакомый человек кажется ему омерзительным. Он пытался отогнать от себя эти мысли, только расстраивающие его, но не мог этого сделать, как не мог прекратить смотреть на неё. Как иной раз человек не может оторваться от наблюдения за каким-то животным в зоопарке, так Егор Дмитриевич не мог оторваться от наблюдения за людьми. Он вечно пытался понять, о чём они думают, чем живут, почему такие, а не другие, и решив для себя, что перед ним за человек, уже не мог изменить своего мнения о нём, даже когда узнавал какие-то прямо противоположные своим суждениям подробности. Ему было жутко, однако, думать, что кто-то мог судить о нём так же, как он обо всех окружающих. Поэтому он не любил внимательных взглядов, направленных на него: с людьми, внимательно смотрящими ему в глаза, он вряд ли мог когда-либо сойтись. Однако, как ни парадоксально, именно так он сошёлся со своей женой, Леной.
Задумавшись о ней, он не заметил, как женщина в пуховике докурила и, собравшись было подниматься домой, остановилась и стала искать в кармане пачку. Гомозина от размышлений оторвал её визгливый выкрик:
– Гадина!
Опомнившись, Егор Дмитриевич увидел упавшую под ноги на высоких каблуках скомканную пачку сигарет; и, едва он понял, что случилось, каблуки зацокали и голос вновь хрипло вскрикнул:
– Сосед! – Гомозин молча кивнул. – Угости папироской! – Она медленно подошла под балкон с грацией бездомной кошки, пристально взглядывая на Егора Дмитриевича шальными глазами. Гомозин молча вытянул перед собой сигарету.
– Поймаешь? – негромко спросил он.
– Ловлю! – тоже шёпотом ответила она.
И Гомозин отпустил сигарету. Та медленно, как на волнах, полетела вниз и у самой пятерни, костлявой и когтистой, резко поменяла направление падения и юркнула между пальцами, плюхнувшись в лужу.
– Пакость! – крикнула женщина и кинулась спасать сигарету, но не успела: та насквозь промокла.
Гомозин преспокойно вытащил ещё одну и, как человек протягивает кость перед собакой, протянул её над землёй.
– Будь другом, спустись, а, – попросила Гомозина женщина, скорчив жалостливую гримасу.
Егора Дмитриевича слегка передёрнуло от этого выражения лица, которое никак не шло к хриплому прокуренному голосу, но всё же он решил спуститься. Завязывая шнурки на туфлях, он злился на пошлость и вульгарность этой женщины.
Спустившись вниз, он медленно толкнул железную дверь и увидел стоящую ровно перед собой скромную даму, выжидающе скрестившую руки и плотно прижавшую ноги одна к другой. Глаза под подвижными бровями, поблёскивая особенно ярко в окружении выкрашенных тенями мешков, с какой-то детской наивностью смотрели на Гомозина. На мужчину неприхотливого, простого, обыкновенного, думал Егор Дмитриевич, этот взгляд произвёл бы приятное впечатление, умилил бы его, но его он взбесил. Пошлости, он был уверен, совсем не шла наивность. Пошлость должна быть злой, кричащей, дерзкой – только тогда она имеет право на существование, потому что это хотя бы честно. Но когда её пытаются прикрыть игрой взгляда, интонации или жеста, имитирующих детскую невинность, пошлость эта становится не просто омерзительной, но и оскорбительной, ведь после этих детских взглядов на вульгарных лицах всякое воспоминание из детства омрачается этим новым впечатлением, а всякое общение с ребёнком отдаёт этой мерзостью. У человека, думал Егор Дмитриевич, обыкновенного (а Егор Дмитриевич считал себя необыкновенным) всё было бы наоборот: детское выражение на каком бы то ни было взрослом лице вызвало бы приятные ассоциации, но у Гомозина теперь это же выражение на лице ребёнка вызывало бы ассоциации сугубо дурные.
– Я спустился – значит, дам. Незачем такую морду корчить, – грубо выпалил он и полез в карман за пачкой.
– Спасибо, – смутившись, она не нашлась, что ответить, и поэтому просто поблагодарила.
Егор Дмитриевич протянул ей сигарету, и женщина, вставив её между сложенными дудочкой губами, выжидающе вытянула голову вперёд. Гомозин зажёг ей сигарету. Когда у её лица вспыхнул огонь, он разглядел потёкшую тушь.
– Покурите со мной? – выпустив изо рта дым, спросила она, пряча глаза, будто смущаясь. Гомозин решил для себя, что это мерзкая игра, и из праздного интереса решил подольше понаблюдать за женщиной.
– Ну давайте, – сказал он и потянулся за пачкой.
– Соседи теперь будем? – спросила она, пока он разбирался с зажигалкой.
– Ненадолго, – сказал он, выпуская дым изо рта.
– Не нравится у нас? – хмыкнула она.
– У кого «у нас»? – раздражённо выпалил Егор Дмитриевич. – Я у себя на родине.
– Не нравится на родине, значит?