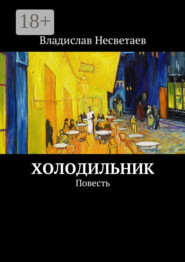По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гомоза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только самое плохое, – вновь заулыбалась Лидия Тимофеевна.
– Не пришибёт меня? – улыбнулся ей в ответ сын.
– А вот сейчас и поглядим.
– Ручищи у него будь здоров, – одобрил Гомозин.
– Рабочий человек, повторяю тебе.
– Не грубый? – серьёзно спросил Егор Дмитриевич. Он никак не мог совладать с волнением, отчего-то охватившим его.
– Ещё какой, – оголила золотые коронки Лидия Тимофеевна. – С ним шутки шутить не надо.
– И как же ты такая с ним уживаешься? – раздражённо выпалил Гомозин.
– А я только с хамами и грубиянами шучу – с хорошими людьми я покладистая.
– Тёртый калач, Лидия Тимофеевна, молодец! – барабанил пальцами по столу Гомозин.
– Ну хватит, – кивнула старушка, – дурацкая привычка.
– А ты чего не шуршишь-то? Чего на стол не накрываешь? – перевёл тему Егор Дмитриевич.
– А чего это я? – вдруг опомнилась Лидия Тимофеевна. – Вишь, мозги ты мне запудрил совсем, – бормотала она, поднимаясь.
Вспыхнула конфорка, и стал греться борщ. Перед Гомозиным по центру стола возникла корзинка с ржаным хлебом, по краям – блюдца, ложки, вилки. Затем банка горчицы, нарезанное мороженое сало, ломтики колбасы, зелёный лук, чеснок и, наконец, небольшой графинчик водки и три рюмки.
– Немножко можно за встречу, – тихонько комментировала старушка. – Будешь?
– Видно, день такой, – улыбнулся Егор Дмитриевич.
– Какой день? Будешь, спрашиваю? – требовала конкретики Лидия Тимофеевна.
– Куда же я денусь? – улыбнулся ей сын.
– Тебе, Егорка, пора бы говорить научиться по-человечьи, – сказала старушка, разливая борщ по блюдам.
– Всё лето у вас такая пакость? – Гомозин указал на окно, всё облепленное мелкими каплями.
– Ты с собой привёз, видно. Ух ты! – опомнилась мать. – Сумки-то не разложила! Давай-ка поищи там сметанки.
– Главное, яйца не побить. – Закряхтев, Егор Дмитриевич встал с места.
– Я тебе побью! – пригрозила ему Лидия Тимофеевна, ставя дымящиеся блюда на стол.
– В каком? – шуршал пакетами Гомозин.
– Ну поищи. Что тебе всё сюсюкать нужно? – Старушка выливала даже не начатый чай в раковину.
– Сразу видно: голодом тебя не морили, – усмехнулся Гомозин.
– Холодный пить собрался?
– Ничего, я шучу над тобой. – Гомозин протянул матери банку сметаны и уселся на своё место.
– Ну, трутень! – Лидия Тимофеевна открыла банку и положила по ложке в каждую тарелку. Егор Дмитриевич смутился бы словам матери, если бы не знал её. – Коль! – крикнула она, садясь на место. – Накрыто, пошустрее там!
– Ты погляди на неё, – одобрительно поджал губы Егор Дмитриевич. – Концерт?
– Рукавички ежовые.
– Сейчас, поди, как пуля вылетит из ванной.
– Засекай, – стала кичиться Лидия Тимофеевна. И действительно: почти сразу вода перестала шуметь и из ванной донеслись другие звуки. – Армейская выправка! Через полминуты будет как струнка в фартучке.
Не больше, чем через минуту, в клубах пара показался Николай Иванович в семейных трусах. Выключив свет, он зашагал на кухню, но тотчас остановился, заметив, наконец, Гомозина.
– Вот тебе раз, простите, – досадливо расставил руки старик. – Сейчас оденусь, – будто застеснялся он и быстро зашагал в комнату. – Опять прорвало, что ли? – крикнул он оттуда.
– Не то слово! – отозвалась вся сияющая Лидия Тимофеевна. – Аж с Москвы пришлось сантехника вызывать!
– Ну? тебе! – усмехнулся Николай Иванович.
– Правду говорит, Николай Иванович! – крикнул сдавленным голосом Гомозин.
Старик, нацепив на себя домашнее трико и рубашку, зашёл в кухню. Егору Дмитриевичу сразу бросились в глаза конкретные, крупные черты его лица. Николай Иванович был красив. Полное лицо его совсем не походило на сухое материнское. От него веяло силой и здоровьем. Глаза большие, открытые, ясные; волосы, хоть сплошь белые, – гуще некуда; сильные брови, слегка крючковатый нос, розовые губы и, как у младенца, припухшие раскрасневшиеся щёки. В целом лицо у него было подвижное, живое и счастливое, но в то же время несущее в себе какую-то глубоко запрятанную тоску и рассудительность. Гомозину сразу подумалось, что этот большой человек прошёл через большие несчастья и утраты и только сейчас смог наконец добраться до спокойствия и умиротворения. Широкие пухлые плечи его, несмотря на общую мышечную расхлябанность, казалось, были высечены из мрамора: виделось, будто они многое на себе вынесли. Весь вид Николая Ивановича вызывал уважение. «Наверное, по молодости женщины его обожали, – подумалось Егору Дмитриевичу, – раз даже мне, – рассуждал он, – сделалось спокойно, стоило ему войти».
Николай Иванович протянул Гомозину руку, и тот, встав, пожал её, ничуть не удивившись силе, с которой старик сжал его ладонь.
– Вы уж меня извините, старого: не заметил. Слепну, как крот. А вы тоже хороши: шлангом прикинулись, – сказал он и захохотал, усаживаясь на место.
– Да подумал: чего беспокоить. – Гомозин смущённо заковырял гущу борща ложкой.
– Правильно: лучше хозяина в одних трусах застать, – улыбнулся Николай Иванович. Только сейчас Гомозин заметил, что у старика на левой руке не хватает фаланги безымянного пальца.
– Да я что-то растерялся как-то, – ответил Егор Дмитриевич.
Лидия Тимофеевна, улыбаясь, наблюдала за этой картиной.
– Ну вы хоть представьтесь, что ли. Как по имени, по батюшке? Меня-то вы, видимо, знаете.
– Егором Дмитриевичем меня звать, – отозвался Гомозин, стараясь придавать своей фразе весомость.
– Приятно познакомиться, Егор Дмитриевич, – закивал головой Николай Иванович, пристально вглядываясь в глаза собеседнику. – Ну что, айдате кушать, Егор Дмитриевич. Приятного аппетита, – сказал Николай Иванович и принялся медленно, спокойно есть борщ. Гомозин собирался что-то сказать, но Лидия Тимофеевна, вся сияющая, остановила его знаком руки и внимательно поглядела на сожителя:
– А ты, Николай Иванович, чего это, перед собой уже не видишь? Совсем ослеп?
Тот отложил ложку и окинул взглядом стол.