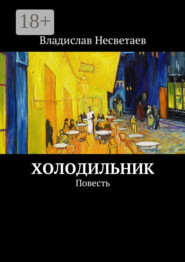По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гомоза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это как получится, Николай Иванович. Поглядим.
– А ты побудь подольше. Через недельку дочурка моя приедет с детками. А может, и через пять дней.
– Ну, пять дней я, может, вас и вытерплю, – широко заулыбался Егор Дмитриевич.
– Нам бы тебя вытерпеть, – шикнула Лидия Тимофеевна. Ей было всё тяжелее сохранять свою позу: хотелось, конечно, проучить сына за долгое отсутствие, но делать это было сложно, когда он сидел тут, под бочком. Хотелось обнять его и расцеловать.
– А эта всё ядом пуляется, – захохотал Николай Иванович. – Ты не слушай, Егорка: перебесится.
– А то я не знаю, – улыбнулся он.
– А мы с тобой на рыбалку сходим, по грибы; крышу мне поможешь на сарае перекрыть, походим на лодке по пруду. А? Хорошо? Заскучать не дадим. А там и молодёжь подтянется. Скоро, гляди, клубничка пойдёт, малина, хрюшку заколем – шашлыка наделаем, мантов. Мать холодца наварит. А, мать? Наваришь?
– Наварю, – отозвалась Лидия Тимофеевна.
– Во, наварит. А я даже, знаешь, отгул себе возьму. Больничный!
– Да что вы? Не нужно – я не заскучаю, не переживайте. Может, сяду за мемуары.
– Дорогой мой, какие мемуары в твои годы? Всё решено! Возьму больничный. – Лидия Тимофеевна молча умилялась тому, что её два главных мужчины нашли друг друга. – Может, на охоту удастся выбраться.
– Так до подагры недалеко, – отозвался Гомозин, хлюпая борщом.
– Ну а как в Москву вернёшься, можешь на сельдерей садиться, – улыбался Николай Иванович. Лидия Тимофеевна встала с места и понесла пустые тарелки к раковине. – Лидочка, мне прямо туда.
– Мне тоже, мам. – И она наложила жаренной с грибами картошки в тарелки.
– Предлагаю по третьей, – сказал Николай Иванович и разлил водку по рюмкам. – За тех, кого с нами нет. – Он встал с места и уставился в угол кухни, будто там кто-то стоял. Гомозин проверил: никого не было. Затем Николай Иванович изобразил жестом, будто жмёт чью-то руку, и молча осушил рюмку.
– Гляди, ещё недолго, и нас поминать станешь, – зачем-то сказал Николай Иванович слегка сдавленным голосом. Лидия Тимофеевна тотчас поднялась, схватила графин и понесла его, куда только она знала.
– Пошёл процесс, – недовольно бубнила она себе под нос.
– Ну что вы? – улыбнулся малость охмелевший Егор. – Крепкий такой, ещё меня переживёте!
– А чёрт его знает, что судьба готовит, – грузнел старик.
– Только хорошее. Всё плохое позади, – меланхолично улыбался Гомозин.
– Поминаешь жёнушку? – спросил вдруг Николай Иванович, глядя на Егора пронзительными влажными глазами.
Егор Дмитриевич резко переменился в лице: кожа, как мягкое сырое тесто, повисла мешком, очертив глубокие чёрные морщины, губы беспорядочно едва заметно зашевелились, и без того тёмные глаза совсем почернели в тени опустившихся бровей, взгляд их рассеянно устремлялся в лицо напротив, и не было в них злобы, не было обиды – в них застыл какой-то немой вопрос, обращённый точно не к человеку. Лидия Тимофеевна, услыхав, что брякнул старик, взяла его под руку и повела из кухни. Гомозин машинально проводил их взглядом до косяка двери в гостиную, а затем нашёл их мелкие отражения в кривом зеркале ламинированной грамоты, висящей на стене в прихожей, у самой двери. Силуэты беспорядочно плясали по буквам и узорам: один, маленький и смешной, был грозным и злым, нападая на большой и неколебимый. Большой силуэт поднимал руки в знаке покаяния, но маленький не прекращал полунемые нападки. Егор Дмитриевич смог разобрать лишь три слова: «собака», «всё», «вылью». Мать тараторила как пулемёт, выпуская обойму за обоймой. Гомозин же будто прирос к стулу. Он пытался заставить себя запомнить, как он впал в это состояние, пытался понять, как он это сделал без длительной работы, как это всегда с ним бывало, а вдруг, неожиданно, резко.
Старики молча вернулись на кухню и сели на свои места, пряча друга от друга глаза.
– Помнишь, Егорка, тебе всё ворона снилась в детстве? – обратилась к сыну Лидия Тимофеевна. – «Мам, мне апать валона плиснилась?» А? Помнишь?
– «Спи, спи, она улетела», – ответил, улыбнувшись, Гомозин. – Улетела, – повторил он, закачав головой.
– Эх, снов давно не видал, – сказал Николай Иванович.
– Хватит, нагляделся, – отозвалась Лидия Тимофеевна.
– Разморило маленько, – сказал Егор, зевнув.
– Постелить тебе? – пытаясь разобрать внутреннее состояние сына по его вновь ничего не выражающему лицу, трепетно спросила мама.
– Да нет, ночью спать не буду.
– Егорка, – заговорила, помолчав, старушка, – отца давно-то навещал?
– Перед отъездом. Сорняки подрал.
– Часто бываешь? – спросил Николай Иванович виноватым голосом.
– Почаще, чем у вас, – улыбнулся Егор. – Раз в пару месяцев, наверное.
– Бабку с дедом поедешь проведать? – спросила Лидия Тимофеевна.
– Куда ж деваться?
– Николай Иванович тебя сводит – я недавно была. Не могу я: сердце рвётся, и всё. Сентиментальная больно стала.
– А дядька Юра?
– И дядьку Юру проведаете. Они там рядышком. Не помнишь совсем?
– Запамятовал, – сказал Гомозин, глядя перед собой, и все замолчали.
– А домик какой у нас хороший стал, – вздохнув, заговорила Лидия Тимофеевна. – Аж страшно.
– Чего страшно? – не понял Егор Дмитриевич.
– Пожгут ещё от зависти. Народ злобный нынче.
– Это кто ещё злобный! – засмеялся Гомозин. – Делать людям, что ли, нечего? Дай только избу твою попортить?
– А ты поживи с моё. Ходят, Егорка, глазеют. Плюются. – Николай Иванович предательски молчал.
– Особняк у вас там, что ли?
– Ну усадебка хорошая, – закачал головой старик.
– И вы о том же? – усмехнулся Егор и принялся за картошку. Все сразу оживились и тоже стали есть.
– А я так не думаю, как мать, – заговорил старик. – Я людей люблю. Всяких людей. А старушка твоя – только ближних. Ну надерёт детвора яблок – что с того? А Лидия у нас всё дурные знаки видит.
– Сначала они их рвут, а потом давай в окна швырять, – буркнула старушка.