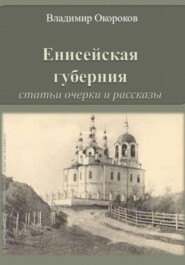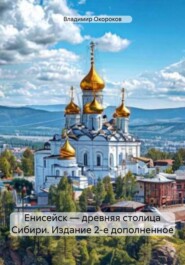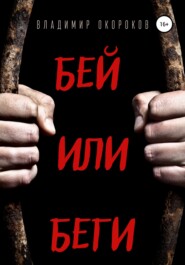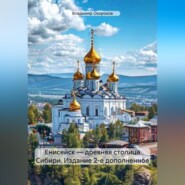По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ясак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
***
Как всегда это бывает, большая часть участников любой экспедиции даже не подозревают какие перед ней стоят цели и задачи, целиком и полностью полагаясь на своих командиров и начальников.
Конечно, как всегда, в отряде были различные кривотолки, сплетни и пересуды по поводу истинных задач стоящих перед путешественниками. Основная версия, обсуждаемая холодными зимними вечерами возле пылающих печурок и очагов, это – что идут они к Енисею ставить Тунгусский острог. Но были и другие слухи, от войны с тунгусами и, до совсем уже фантастического, похода на Бухару или Китай с целью захватить и колонизировать басурман, приобщив их к единственно правильной святой православной вере.
***
Кроме основной задачи, строительства Тунгусского острога на берегу Енисея, было и еще одно поручение, о котором знал только Петр, но народ, раньше времени в это он не посвящал и даже другу своему Черкасу не говорил. Таков был приказ Первого воеводы Тобольского разрядного острога князя Куракина и Митрополита Ионы Архангельского.
Накануне, перед тем как им предстояло отправиться в путь, его кликнули в терем к Тобольскому воеводе, для секретного разговора.
***
В те времена вся Сибирь в религиозном отношении была подведомственна архиепископам Вологодским и Великопермским. И когда воевода представил Албычеву монаха, присланного в Тобольск от архиепископа Макария, Петр уважительно склонил голову и опустился на колени, прося благословения.
Именно в тот памятный вечер при свете пылающего очага и свечей, освещающих в красном углу иконы с суровыми ликами святых, монах и поведал ему эту тайну.
По словам монаха, в тех краях, куда утром должен отправиться его отряд, должен быть православный скит, где давно в уединении и молитвах праведных живет старец Тимофей со своей монашеской братией.
Как поведал монах, Тимофей Иванов в тех местах на берегу Енисея проживает уже более двадцати лет.
Еще при первом патриархе Иове на Енисее уже существовал этот скит. Знал об этом и его преемник, патриарх Гермоген. При нем скит тот называли Спасо-Преображенским монастырем и связь Патриархата со святой обителью непрерывно существовала. Правда в смутные времена было не до этого, контакты прекратилась. Но, патриарх Филарет, уже скоро вернется в Москву и он требует, связь с Спасо-Преображенским монастырем, незамедлительно восстановить.
И вот теперь, пользуясь оказией, с разрешения митрополита Ионы Крутицкого, временно управляющего Русской православной церковью, архиепископ Макарий повелевает ему, сыну боярскому Петру Албычеву, отыскать тот монастырь.
***
«Дети боярские» в России считались сословием благородным и входили в число служилых людей. Считалось, что все они были потомками старинных боярских родов и потому их жаловали не меньше дворян.
Петр знал, что первым, кто в их роду получил русское дворянство, был его дед Албыч-мурза. Он служил еще в Золотой орде, но после распада Великого ханства присягнул русскому царю Ивану Третьему.
Потом, уже при правлении Ивана Грозного, потомки дворян Золотой орды были подвергнуты опале. Многие из них были казнены, некоторые отправлены в Сибирь. Вот таким образом Петр Албычев и оказался в Пелыме в статусе сына боярского.
Тогда там, в тереме тобольского воеводы, Петр поклялся, что исполнит волю государя и Святой русской православной церкви, и раньше времени тайну эту не разгласит.
Но как оказалось, эта тайна была уже давно не тайна. Служилым людям из его отряда она давно была не только известна, но и от частого повторения приобрела уже поистине причудливые, даже фантастические формы и очертания.
Казачки десятника Кайдалова, ходившие однажды в те места воевать тунгусов, любили почесать языком, рассказывая изумленным слушателям, как не раз на берегах Енисея им приходилось встречать неведомого человека-призрака. Человек якобы тот никогда на разговор не шел, а быстро и почти бесшумно исчезал в чаще леса. Да так, что потом казалось будто его никогда и не было вовсе.
***
Сотник Рукин любил иногда потолкаться среди своих стрельцов, посидеть у костра, похлебать с ними из одного котелка, а иногда и выпив кружечку-другую браги, послушать байки бывалых людей.
Как-то, зимним вечерком, он вдруг завел разговор о таинственном старце.
– Слышал я вчера от казачков тех, что с Кайдаловым в Кетском остроге служили, байку ту занимательную, что нам Андрейка Фирсов поведал.
– Что ж тут удивительного? Они ж почитай с Андрейкой там и были. Или что новенького слышал, о чем Андрейка умолчал? – Поднял голову Петр.
– Да нет вроде, все так. И про старца седого и про медведицу. И послы остяцкие, что от Намака приходили, то же самое говорили. Якобы живет там кто-то из русских и уже давно живет, да вроде и не один. Ты сам-то раньше об этом ничего не слышал? – Черкас внимательно глянул на атамана.
– Нет. – Буркнул Петр. – Некогда мне всякие байки слушать и ты такие разговоры не поощряй.
– А вот еще остяки говорили, – не унимался Черкас – что там, в тайге, живет какой-то то ли шаман, то ли колдун. Ему вроде уже много тысяч лет от роду и он, якобы, видел самого Иисуса Христа.
Ну что ты несешь, Черкас? – Замахал руками Албычев. – Откуда им-то про Иисуса Христа знать, сам посуди. Там тунгусы одни, да зверье дикое. – В душе Петр давно уже сопоставил услышанное, от Андрейки Фирсова, с тем, о чем поведал ему тогда приезжий монах. И получалось, что монастырь тот или скит на Енисее все-таки существует.
***
Еще по осени все лодки, струги и дощаники по приказу Петра, были разобраны на доски и часть этих материалов перенесена по тропе к речке Тыи.
Остальные доски и другой ценный груз Албычев планировал доставить туда весной, как потеплеет. Осенью времени не хватило, все были заняты на строительстве острога, да пополнением запасов продовольствия.
И вот в апреле группа служивых, в количестве тридцати человек, отправилась туда с пятью большими санями гружеными досками. Экспедицией вызвался руководить сам сотник Рукин. Из-за отсутствия лошадей сани тянули и толкали сами люди. Они частенько проваливались в снегу, цеплялись за коряги и поваленные на землю лесины. Казаки злились, ругались сквернословно, но сани тащили. Особенно доставалась тем, кто шел впереди. Следом за обозом по снегу тянулась глубокая снежная борозда.
– Ничего, ребята, – подбадривал сотник – наш след теперь подмерзнет и следующий караван уже легче пойдет. Надо отдать должное люди не роптали и не отлынивали, только бранились и матюгались. Все понимали, иначе никак.
***
Через трое суток поздно вечером отряд вернулся в острог. Уставшие, мрачные, как будто, чем-то подавленные казаки и стрельцы молча разбрелись по своим избам и землянкам.
– Спалили наши плахи. – Обламывая с бровей, усов и бороды ледяные сосульки обронил Черкас, устало опускаясь на корточки возле затухающего очага.
– Как спалили? – Вскочил на ноги, собравшийся было уже спать, Петр. – Кто?
– Да кто ж это знает? – Пожал тот плечами.
– Что же это? Неужели тунгусы сожгли?
– Зачем националам доски жечь? Они скорее бы с собой их унесли, чем сжигать. Доски хорошие в любом деле сгодятся, и время у них на это было предостаточно.
– Это верно. Но кто же тогда?
– Есть у меня на этот счет некоторые мыслишки, – Черкас налил себе кружку горячего смородинового чая. – Как думаешь, Петр, наш острог на Енисее кому помешать может?
– Ну, тунгусам, наверное. – Задумчиво пробурчал тот.
– Нет, Петр. В первую очередь наш острог на Енисее поперек горла воеводе Челищеву.
– А ведь верно. – Оживился Петр. – Мне еще тогда показалось подозрительным, что Челищев как-то неохотно обсуждал наши планы. Словно не верил, или не хотел верить, что эта задумка осуществится. Он даже открыто сомневался в правильности такого решения. Ведь говорил же он, что «ясака» в этих местах для двух острогов будет мало и националы такой нагрузки не выдержат. Могут, мол, взбунтоваться и перекочевать дальше на Восток или на Север. А когда мы попросили у него лошадей, он отказал, сославшись на какой-то мор и падеж скотины. Мне тогда еще показалось это странным. Ведь Иван Семенович сказывал, что в Кетском остроге у Челищева лошадей достаточно. Значит, ты считаешь, это он сжег наши доски?
– Ну, уж точно не тунгусы. – Черкас подбросил в очаг березовые поленья, отчего пламя вспыхнуло и заплясало с новой силой, освещая желтые, еще не потемневшие бревенчатые стены избы. – Они бы эти доски к себе в стойбище увезли. – Уверенно молвил Черкас. Он повернул к Петру свое обветренное и раскрасневшееся от огня лицо. – У тунгусов оленей полно, они их в нарты, как мы лошадей, запрягают, и вези что хочешь. Это остяки пешком ходят, у них оленей нет. Ленивый народец. Так что прав Андрейка Фирсов, они далеко от речки не кочуют. Незачем это им и не на чем.
– Видел я такие повозки у наших вогулов в Пелыме. – Кивнул рассеянно головой Петр. – А ну, как и эти доски, что сейчас ты привез, пожгут? Что тогда?
– Не пожгут, я там своих стрельцов в охранение снарядил. Если что, шуганут. Ладно, Петр, ты как знаешь, а я спать, умаялся, по снегу-то бегаючи.
Глава 6. Таинственное предупреждение.