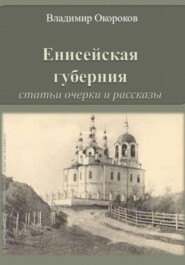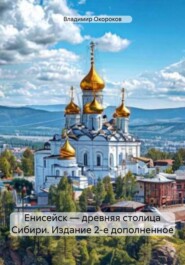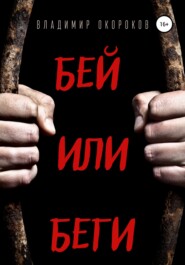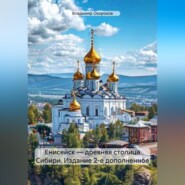По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ясак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И когда в отряде знающие люди вдруг заговорили, что, мол, до Кетского острога остался всего лишь один дневной переход, люди с облегчением вздохнули и повеселели. Они были уверены, что там наконец-то их ждет большая стоянка, баня, хорошая горячая пища с выпивкой и, конечно же, отдых.
***
Последний раз большая стоянка должна была быть в Нарымском остроге, что в устье впадения реки Кети в Обь. Однако экспедиция тогда задерживаться в Нарыме не стала. Оставив часть груза предназначенного для населения острога, малость передохнули и отправились вверх по Кети. Время, как говорится, поджимало.
Поскольку предстоящий, как считалось последний, этап пути был самым протяженным и трудным, то и сейчас стоянку решили сократить до минимума. Дальше предстояло, доверившись памяти казаков десятника Кайдалова по их заверениям ходивших уже по этому пути к Енисею, подняться по Кети до заветной тропы, а там «волоком» по тайге до речки Тыя. Все понимали, что надо торопиться, время до холодов оставалось совсем мало.
Невзирая на ропот и недовольство казаков, Петр Албычев посоветовавшись с Кетским воеводой Челищевым, решает, не мешкая, продолжить путь.
***
Следующие две недели уже с трудом перетаскивая струги по мелководью, пройдя около двухсот верст, вверх по Кети, караван снова разбивает лагерь.
Пешком до речушки Тыя оставалось не менее трех дней пути. Но это если идти налегке. Албычев и Рукин задумались.
– Зима уже наступала на пятки, вот-вот пойдет снег и ударят морозы, а путь впереди предстоит нелегкий. Ведь нам еще надо перетащить туда весь груз. Зимовать здесь надо, а то и сами пропадем и груз растеряем. – Уговаривал Рукин Албычева
– Да понимаю я все, чай не маленький. – Петр в задумчивости оглядел лагерь. – А знаешь Черкас, ты прав. Будем зимовать. И место, посмотри-ка, как специально для нас уготовано. Люди, и так изрядно уже измотаны, едва на ногах держатся, пусть отдохнут. А завтра с утра всем объявим, да и начнем строиться с Божьей помощью. Ты Черкас вечером к нашему костру кликни-ка Андрейку Фирсова, по всему видно, паренек-то головастый. Может, что дельное подскажет.
На том и порешили. Место на берегу Кети, где расположился отряд на ночлег, действительно, как будто специально было предназначено для строительства острога, а то и небольшого городка. Достаточно большая поляна на достаточно высоком и крутом берегу. И судя по принесенным течением корягам и лесинам, валявшимся у реки, поляна не подтоплялась весенними водами.
– Лес здесь как на подбор, да и рядом совсем. По крайней мере, нам на первое время хватит. – Черкас обвел рукой вокруг себя.
Даже в сгущавшихся сумерках было видно, что строевой лес был действительно почти под самым боком. С трех сторон поляну плотной стеной окружали высокие, столетние сосны.
– Место, действительно, отменное. – Задумчиво произнес Петр. – Меня, Черкас, другое беспокоит. Хватит ли нам хлеба до следующего каравана? По плану-то мы в эту осень должны были уже к Енисею выйти. Ведь у нас хлеба, сам понимаешь, только на эту зиму и хватит-то. А если обещанный, воеводой, караван не придет? Голод будет.
– Не кручинься, атаман, эти люди ко всему привыкшие, как-нибудь перезимуем, а там видно будет. Здесь и рыбы, и мяса полно, не ленись только. Может зерно, попридержим, сэкономим малость. Выдержим, атаман не печалься. Вот только воеводе надо, как-то, дельно отписать, чтоб не разгневать его?
– Однако надо сейчас решать. Обратно двести верст до Кетского острога спускаться, или рискнуть и к Енисею по снегу идти, или здесь зимовать. Вот и ты говоришь, «как бы воеводу не расстроить». Нам, Черкас, не только перед воеводой ответ держать придется, но и перед всем честным народом, если мы отряд по глупости своей погубим.
– Так решили же. Завтра объявим казакам, сам увидишь, большинству вздумается здесь зимовать. Избы и землянки мы к Покрову Пресвятой Богородицы с Божьей помощью построим.
– Не знаю, вот ведь только Воздвижение Креста Господня было, две седмицы и осталось-то до Покрова. Совсем время нет. Да и кто топором-то владеет? Раз, два, да и обчелся. Твои стрельцы, поди и топора-то в руках не держали?
– Всякие есть. Я вот что, атаман думаю. Утром лично со всеми стрельцами и казаками переговорю, кто может топором работать те в лес, на заготовку бревен. Кто топора, как ты говоришь, в глаза не видел, зачнут землянки копать, этому-то учить никого не надо. А еще, я знаю, охотники есть, надо мясо-то впрок заготовить. В общем, я завтра сам всякого испытаю, к чему годен и тебе, атаман, доложу.
***
После этого ночного разговора прошло всего несколько дней и теперь визжание пил и стук топоров стал настолько привычен, что на это никто и внимания не обращал. Работа начиналась затемно, затемно и заканчивалась, стихая только лишь на обед.
Когда в начале октября внезапно ударил морозец и запорошил первый настоящий снег, стойбище уже выглядело как небольшой городок. Пяток рубленых изб да столько же землянок были почти готовы, только и оставалась-то сложить в них печи из камня, либо чувалы и живи. В первую очередь, кроме бани, был построен амбар. Он хоть и был с виду неказист, однако не протекал и теперь в нем хранился весь груз. Поселение было огорожено двухметровым тыном с воротами, выходящими к реке и двумя смотровыми вышками.
Получилась вполне себе добротная заимка, в которой можно было не только перезимовать, но и в случае чего укрыться от воинствующих кочевников-тунгусов, частенько рыскающих в этих местах.
Внезапно на заимке появились националы. Они подобострастно улыбались, угодливо заглядывая казакам в глаза говоря: «Рус корошо. Намак тоже корошо. Намак кланяться велел. Подарок дарить Намак воевода прислал».
Оказалось что заимка, ставшая в будущем новым острогом, была возведена на землях остяцкого князя Намака, весьма лояльно и дружески настроенного к русским властям. Он и его люди одними из первых присягнули русскому царю, приняли православие и безоговорочно платили «ясак» в российскую казну.
Сам князь Намак в эту осень с первопроходцами не встретился. По словам послов, племя кочевало в верховьях реки Малый Кас, за десятки верст от заимки, возведенной на его землях. Однако, неведомо как, прознав об отряде, посланном аж самим воеводой князем Куракиным, гонцов своих с подарками, Намак в отряд прислал.
– Вот же нехристь узкоглазая. – Расхохотался Черкас. – И как узнал только?
– Как узнал? – Андрейка Фирсов, присутствовавший при разговоре, удивленно вскинул голову. – Да его люди давно уже следом за нами идут. И сам Намак наверняка где-то рядом отирается. Никогда еще его племя не кочевало дальше ста верст от Кети.
После того ночного разговора у костра в устье Иртыша, смекалистый Андрейка понравился Албычеву и он теперь держал его при себе и частенько прислушивался к его советам.
– Как думаешь, зачем посольство с дарами Намак к нам прислал? – Поинтересовался он.
– Так знамо дело зачем. Вынюхать все, про отряд. А потом Намак Чеботаю обо всем и доложит. – Не моргнув глазом выпалил Андрейка.
– Воеводе Челищеву, что ли?
– А то кому же? – Мы когда в Кетском ночевали, я с дружками в кружало ходил и разговор слышал. Будто Чеботай очень не рад, что мы к Енисею идем. Это выходит, говорит он, мои ясачные волости теперича другим достанутся? Так не бывать этому, говорит. Костьми лягу, говорит, а земли те не отдам. Сам-то я от Чеботая таких слов не слышал, но люди зря не скажут. Наверняка это он и послал по нашему следу людей Намака.
Вечером того же дня отправляя в Тобольск гонца к воеводе Куракину, Албычев писал, что вопреки задуманному плану экспедиция дальше двигаться не сможет, а потому принято решение – зимовать в верховьях реки Кети. Он не только описал место вынужденной стоянки, но также отправил Куракину план поселения и просил разрешения именовать новый острог Намакским.
Чтобы лишний раз подчеркнуть уважение к коренному населению, Петр Албычев именовал новый острог в честь их вождя Намака. Однако где-то там, в чиновничьих переписках между Тобольском и Москвой, кто-то из писцов, дьяков или подьячих совершит описку и в Москве, в Приказе Казанского дворца, новый сибирский острог будет записан как Маковский.
***
В разговоре с послами Албычев поведал им, что отныне платить «ясак» они будут воеводам нового Тунгусского острога, что будет поставлен на реке Енисее. Гонцы заверили его, что князь Намак не будет возражать, раз так повелел большой воевода, князь Иван Семенович Куракин. Однако всерьез опасались как бы прежний их начальник, воевода Кетского острого Челищев, не стал бы, противится, такому повороту дел.
– Ничего не бойтесь. – Как мог, успокаивал остяков Петр. – Весь «ясак» идет в царскую казну, а кто его туда доставит, разницы большой нет.
Однако же гонцы уехали в полном недоумении. – Как это, не важно, кто доставит «ясак» в царскую казну? – Ломали они головы – а как же «воеводские поминки»? Ведь Челищеву, кроме государственного налога, еще полагалось немало шкурок для личного пользования, равно как и всем дьякам и подьячим Кетского острога. Все это знали, и никто никогда бы не посмел нарушить этот установившийся годами порядок. Кроме того, все воеводы старались как можно больше собрать «ясака» и тем самым выслужиться перед государем, а тут – на тебе. Да и «аманатов» с их племени полным полно маются в острожной тюрьме. Кто ж их без уплаты «ясака» выпустит?
В общем, уехали гонцы Намака в полном недоумении и печали, так и не поняв, что им теперь делать.
Албычев тоже после разговора с Намакскими остяками долго не мог успокоиться. Что-то показалось ему в их поведении неестественным и фальшивым. – Внезапно приехали, быстро уехали, даже от вина отказались.
Улучив момент, Петр как бы ненароком с напускным равнодушием поинтересовался у Андрейки Фирсова.
– Как так получилось, что никто из отряда не заметил прежде этих Намаковских послов?
– Как не заметил? – Удивился Андрейка. – Мы давно докладывали своему десятскому Алексею, что за нами следом остяки идут. Он только посмеялся, – показалось вам, говорит, наверное. Да и эка ли невидаль, в этих местах остяка или тунгуса встретить. Это же их вотчины, а не наши.
– Ну, это как сказать, теперь-то уже, наши. А с Алексея я за недогляд спрошу.
– Остяки Намака не опасны нисколько, это тебе не тунгусы, те звери. Злые, частенько нападают не только на наши «ясачные» отряды, но даже на стойбища остяков. Намак сам себе на уме, считаешь, что он нас, русских, шибко любит? Нет, он тунгусов боится. Потому и ищет защиты у Чеботая и «ясак» платит исправно, и «поминки» воеводские изрядные привозит.
– А с тунгусами он как? Челищев-то?
– С тунгусами он тоже дружит, но виду не показывает. «Ясаком» не обложил, под царскую руку не зовет, к православию не призывает. Раньше воины тунгусского князя Данула, что на правом берегу Енисея вотчины имеет, частенько на его отряды нападали. Было дело, убивали тунгусы казаков и стрельцов, почем зря. Только знаю, что теперича люди Данула перестали воевать, то ли из страха перед Чеботаем, то ли Чеботай Данулу какую поблажку сделал. Поди теперь, разберись. Хитрый он, этот Чеботай. – Проронил задумчиво Андрейка. – Я б на твоем месте атаман, верить ему поостерегся.
Глава 4. Кара Господня.
Так уж случилось, что в Тобольске князь Куракин был 13-м по счету воеводой. «Чертова дюжина». Это мистическое число, в христианской религии, давно считается несчастливым и таит в себе множество таинственных, дьявольских предзнаменований, предрассудков и суеверных страхов. И поскольку Иван Семенович считал себя истинным христианином, ему, как и большинству людей жившим в тот период времени, не были чужды эти предрассудки. Боялся он, что с ним может приключиться какая-нибудь напасть.