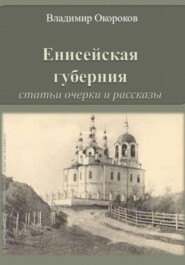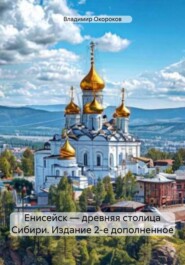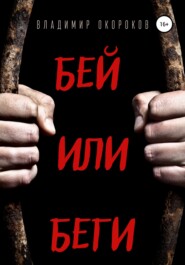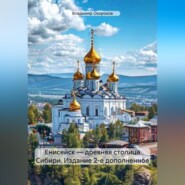По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ясак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ясак
Владимир Дмитриевич Окороков
Поскольку основным источником доходов в Русскую казну в описываемые мною времена были меха, а пополнялись они за счет натурального налога – «ясака». То таким образом, основными налогоплательщиками являлись вовсе не русские люди, а коренные жители Сибири.
Вполне естественно, что царь и его бояре были крайне заинтересованы в захвате новых «ясачных» угодий.
И вовсе не поиск приключений и человеческая любознательность, а «ясак», то есть жажда наживы толкала людей за Урал, все дальше и дальше в Сибирь и Дальний Восток, вплоть до самого Тихого океана.
Чтобы нам, людям, живущим в 21-веке, было понятно значение «ясака», то представьте, только, что доход от него, был сопоставим, с нефтегазовым экспортом современной России.
Владимир Окороков
Ясак
Глава 1. Воевода.
Тобольский воевода Иван Семенович Куракин проснулся сегодня поздно. Раздраженно ворча и зевая вылез из под теплого, на гусином пуху, одеяла накинул на плечи шитый золотом бархатный архалук и шлепая босыми ногами по выскобленному деревянному полу, спустился в поварню.
Сквозь крошечные слюдяные оконца внутрь помещения еще несмело, но уже все настойчивее пробивалось бледное предрассветное утро.
Зачерпнув ковшом из огромной корчаги, он с жадностью, судорожно глотая и отдуваясь, долго пил.
– Пора вставать – Тяжело вздохнул воевода и кряхтя, направился обратно в опочивальню. – А где же Дунька, Степанида? Куда все подевались? – Он пытался сосредоточиться, но еще медленно и с трудом соображая, не мог уловить, хаотично роившиеся в его голове мысли.
Голова трещала, мутная пелена в глазах, после браги правда исчезла, но сердце все еще колотилось с такой отчаянной быстротой, что казалось вот-вот, выпрыгнет из груди.
Неделю назад в Тобольск из Москвы прискакал вестовой, с важным донесением, от самого царя-батюшки Михаила Федоровича.
Гонец, как выяснилось, принадлежал к знатному и древнему роду Голицыных. Пусть и не встречал его воевода раньше, в столице, уж очень многочисленным было их семейство, но фамилия говорила сама за себя. Да и не послал бы государь к нему абы кого.
Иван Семенович Куракин, хоть был в опале, и сослан в этот захудалый сибирский городок, против своей воли, однако чин имел боярский и титул княжеский.
Встретил Иван Семенович посыльного хлебосольно и приветливо. То ли давно соскучился по общению с людьми благородного сословия, к тому же оказавшемуся хоть и дальней, но все же родней, то ли просто время подошло, но ушли они вместе с гонцом в глубочайший запой, аж на целую неделю.
И неизвестно, сколько бы еще продолжали князья бражничать, если бы стряпуха Степанида, вместе с глухонемым конюхом Ефимом, не уговорили казаков, сопровождающих вестового князя и давно уже тоскующих по родному дому, втихомолку, украдкой увезти его обратно, в Москву.
Погрузив пьяного, князя Голицына, в возок вместе с бочонком водки, казаки радостно отправились восвояси.
***
Государству российскому для торговли с иноземцами срочно нужны были меха – мягкая рухлядь или, как ее еще называли, «ясак». А, как известно самые богатые, неосвоенные еще, пушные леса находились между Обью и Енисеем. Но поскольку ходить туда промысловикам было далековато, да и постоянно возникающие стычки между различными туземными племенами препятствовали пушному промыслу, то решил Иван Семенович отправить к Енисею сотню служилых людей, дабы заложить там острог Тунгусский и подчинить, те народы дикие, государству российскому. А на дворе уже был 7126 год от сотворения мира.
Воевода не посмел бы, без царского на то ведома, отправить отряд к Енисею и потому попросил высочайшего разрешение. Уж неизвестно сам ли государь это решение принял или надоумил кто, но только план его был одобрен. Более того велено было ему, воеводе Куракину, направить отряд казачий к Енисею не позже нынешнего года, о чем и в Указе царском, что Голицын привез, писано было.
Раздражать, ни государя, ни думских бояр Куракину не хотелось, в душе все же он надеялся на царскую милость и возможность, когда-нибудь снова, вернуться в столицу. Он понимал, что время пусть еще окончательно и не упущено, но уже поджимает. Ведь весна-то, вот она, совсем не за горами и если в этом году, как того хочет государь, отправлять к Енисею отряд, то стоит очень поторопиться.
А ведь это не так просто, надо строить струги, дощаники, а самое главное для руководства экспедиции нужны преданные люди. Хорошо хоть, что перед тем как запить с Голицыным горькую, воевода распорядился послать в Пелымь вестового, к сыну боярскому, Петрушке Албычеву, с требованием немедленно явиться в Тобольск с отрядом казаков.
.***
Подьячий Агафон, запыхавшись и отдуваясь, несмело протиснулся в трапезную воеводы. Наскоро перекрестив лоб, он скороговоркой поведал Ивану Семеновичу, что ночью в Тобольск прибыл из Пелымского острога казачий отряд, во главе с сыном боярским Петькой Албычевым, да с ним промышленных людей человек сорок.
Собиравшийся было плотненько позавтракать, Иван Семенович оттолкнул медное блюдо с жареным гусем, помедлив, все-таки выпил кружку холодной медовухи и поднялся из-за стола.
***
Хоть и люты еще в феврале сибирские морозы и снежные сугробы, кое-где, достигают по целому аршину с гаком, но приближение весны уже чувствовалось. День стал значительно длиннее и ярче, снег потемнел и зачерствел. Солнце днем, почти по-летнему припекало, вселяя в души жителей Тобольска, переживших еще одну суровую сибирскую зиму, надежду и ожидание чего-то нового, необычного и радостного.
В длиннополой шубе крытой малиновым бархатом и собольей шапке-боярке, в сопровождении подьячего, Куракин, пешком направился к приказной избе.
Несмотря на ранний час на площади уже было весьма многолюдно и завидев воеводу многие горожане снимали шапки и кланялись ему в пояс. Народ уважал московского боярина. Все жители Тобольского острога знали, что попал сюда князь не по доброй воле, а сослан был царем Михаилом Федоровичем по навету злых людей из их же боярского сословия.
В глубине души Куракин понимал, что причины для его опалы, мягко говоря, у царя и бояр были, а ссылка в далекую Сибирь, все же не самое суровое наказание, за измену и предательство. Слава Богу, хоть жив остался.
Еще совсем недавно боярин князь Иван Куракин был на Москве человеком известным и влиятельным. Занимал при дворе солидные должности и входил в десятку самых знатных и богатых людей России. После свержения Васьки Шуйского, он вместе со своим лучшим другом князем Федором Мстиславским выступили инициаторами царских выборов на Московский престол.
Именно Федор тогда первым предложил короновать на российский престол пятнадцатилетнего Владислава, сына польского короля Сигизмунда Третьего. Многие бояре поддержали тогда такое предложение Мстиславского, да и Патриарх Гермоген был не против, единственно чего он хотел, так это чтобы Владислав принял православную веру.
Вот тогда-то и разошлись их пути-дорожки. Князь Иван Куракин так и остался ярым сторонником избрания на престол польского королевича, а Федор Мстиславский, возглавлявший тогда боярское правительство, вдруг внезапно изменил свое мнение и первым подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова. И не прогадал. Видимо знал князь Мстиславский что-то, что неведомо было ему, боярину Куракину.
С тех пор князь Федор Мстиславский в фаворе. Теперь он первый думский боярин, правая рука государя. Молва идет, что у него самое большое жалование – тысяча двести рублей в год. А вот Куракина именуют теперь не иначе как предателем и изменником, и сидит он не в Москве, а, в Сибирской глуши, в забытом господом Тобольске.
Иван Семенович, конечно, даже в своих рассуждениях, мягко говоря, лукавил. Всем известно, что хоть сибирским воеводам государственное жалование и не полагалось, зато на вверенной ему территории он сам себе был и царь и Бог. Как говорится, на белую булку с маслом вполне хватало.
Не секрет, что обладая практически неограниченной властью, воевода, основной задачей которого был сбор «ясака», мог легко утаить сотню другую шкурок ценного меха. Кроме того, при сборе «ясака» определенный процент вполне легально предназначался лично ему, так называемые «воеводские поминки». И получалось, что чем больше «ясака» он соберет, тем больший процент от этого и получит. Ну, а «объясачивание» туземцев на новых, завоеванных землях, так вообще, кроме официальных доходов, сулило еще и огромные, никем не учитываемые трофеи. К тому же за присоединение к России новых земель, государь достойно и щедро вознаграждал.
Кроме всего прочего, каждый воевода, прежде всего, был еще и помещиком, и где-нибудь в рязанской, смоленской или новгородской губернии у него в собственности были огромные имения с сотнями, а то и тысячами крепостных крестьян. В общем, жить можно было. Не зря же некоторые воеводы на свои кровные денежки снаряжали целые экспедиции на захват и колонизацию новых земель. Впоследствии все это окупалось сторицей, принося им не только богатства, но еще и славу, и уважение в обществе.
***
– Вон Черкашка Рукин уже бежит. – Заорал подьячий, отвлекая Ивана Семеновича от мрачных мыслей. – Ты воевода, уж не гневись, я без твоего ведома, спозаранку еще, за ним послал.
Иван Семенович развел руками и молча глянул на Агафона, что одинаково могло означать – «молодец казак, атаманом будешь», либо «ну и болван же ты, братец» и, вздохнув, стал грузно подниматься на высокое крыльцо приказной избы.
***
Как оказалось, с Петром Албычевым в Тобольск прибыл еще и вогульский князь Василий Кандинский. Если с Албычевым воевода был очень хорошо знаком и специально за ним послал, то Кандинского видел впервые и тот сразу же, еще с «порога», ему не понравился. Уж очень независимо для национала вел себя вогульский князь. А местному населению, особенно «остякам», Куракин не доверял и опасался их.
Однако виду князь не подал, не пристало ему перед нижними чинами характер свой показывать. Зато те, при виде воеводы, вскочили и шапки сняли.
Воевода тоже снял шапку, молча перекрестился на темные лики икон и только потом оглядел гостей.
– Будь здрав, воевода. – Почти в голос молвили они, склонив головы в знак уважения.
– Будьте и вы здоровы, служивые. Сколько казачков привел с собой? – Воевода вопросительно глянул на Албычева.
– Десять добрых казаков со мной, с полной амуницией. Хоть сейчас можем в поход выступить. Говори, кого воевать будем, воевода.
В это время хлопнула входная дверь и вместе с клубами морозного воздуха, в избу ввалился стрелецкий сотник Черкас Рукин. Молча перекрестился в красный угол, с достоинством поклонился вначале воеводе, а потом и гостям и, не сдержавшись, бросился обнимать своего старого приятеля Петра Албычева.
Владимир Дмитриевич Окороков
Поскольку основным источником доходов в Русскую казну в описываемые мною времена были меха, а пополнялись они за счет натурального налога – «ясака». То таким образом, основными налогоплательщиками являлись вовсе не русские люди, а коренные жители Сибири.
Вполне естественно, что царь и его бояре были крайне заинтересованы в захвате новых «ясачных» угодий.
И вовсе не поиск приключений и человеческая любознательность, а «ясак», то есть жажда наживы толкала людей за Урал, все дальше и дальше в Сибирь и Дальний Восток, вплоть до самого Тихого океана.
Чтобы нам, людям, живущим в 21-веке, было понятно значение «ясака», то представьте, только, что доход от него, был сопоставим, с нефтегазовым экспортом современной России.
Владимир Окороков
Ясак
Глава 1. Воевода.
Тобольский воевода Иван Семенович Куракин проснулся сегодня поздно. Раздраженно ворча и зевая вылез из под теплого, на гусином пуху, одеяла накинул на плечи шитый золотом бархатный архалук и шлепая босыми ногами по выскобленному деревянному полу, спустился в поварню.
Сквозь крошечные слюдяные оконца внутрь помещения еще несмело, но уже все настойчивее пробивалось бледное предрассветное утро.
Зачерпнув ковшом из огромной корчаги, он с жадностью, судорожно глотая и отдуваясь, долго пил.
– Пора вставать – Тяжело вздохнул воевода и кряхтя, направился обратно в опочивальню. – А где же Дунька, Степанида? Куда все подевались? – Он пытался сосредоточиться, но еще медленно и с трудом соображая, не мог уловить, хаотично роившиеся в его голове мысли.
Голова трещала, мутная пелена в глазах, после браги правда исчезла, но сердце все еще колотилось с такой отчаянной быстротой, что казалось вот-вот, выпрыгнет из груди.
Неделю назад в Тобольск из Москвы прискакал вестовой, с важным донесением, от самого царя-батюшки Михаила Федоровича.
Гонец, как выяснилось, принадлежал к знатному и древнему роду Голицыных. Пусть и не встречал его воевода раньше, в столице, уж очень многочисленным было их семейство, но фамилия говорила сама за себя. Да и не послал бы государь к нему абы кого.
Иван Семенович Куракин, хоть был в опале, и сослан в этот захудалый сибирский городок, против своей воли, однако чин имел боярский и титул княжеский.
Встретил Иван Семенович посыльного хлебосольно и приветливо. То ли давно соскучился по общению с людьми благородного сословия, к тому же оказавшемуся хоть и дальней, но все же родней, то ли просто время подошло, но ушли они вместе с гонцом в глубочайший запой, аж на целую неделю.
И неизвестно, сколько бы еще продолжали князья бражничать, если бы стряпуха Степанида, вместе с глухонемым конюхом Ефимом, не уговорили казаков, сопровождающих вестового князя и давно уже тоскующих по родному дому, втихомолку, украдкой увезти его обратно, в Москву.
Погрузив пьяного, князя Голицына, в возок вместе с бочонком водки, казаки радостно отправились восвояси.
***
Государству российскому для торговли с иноземцами срочно нужны были меха – мягкая рухлядь или, как ее еще называли, «ясак». А, как известно самые богатые, неосвоенные еще, пушные леса находились между Обью и Енисеем. Но поскольку ходить туда промысловикам было далековато, да и постоянно возникающие стычки между различными туземными племенами препятствовали пушному промыслу, то решил Иван Семенович отправить к Енисею сотню служилых людей, дабы заложить там острог Тунгусский и подчинить, те народы дикие, государству российскому. А на дворе уже был 7126 год от сотворения мира.
Воевода не посмел бы, без царского на то ведома, отправить отряд к Енисею и потому попросил высочайшего разрешение. Уж неизвестно сам ли государь это решение принял или надоумил кто, но только план его был одобрен. Более того велено было ему, воеводе Куракину, направить отряд казачий к Енисею не позже нынешнего года, о чем и в Указе царском, что Голицын привез, писано было.
Раздражать, ни государя, ни думских бояр Куракину не хотелось, в душе все же он надеялся на царскую милость и возможность, когда-нибудь снова, вернуться в столицу. Он понимал, что время пусть еще окончательно и не упущено, но уже поджимает. Ведь весна-то, вот она, совсем не за горами и если в этом году, как того хочет государь, отправлять к Енисею отряд, то стоит очень поторопиться.
А ведь это не так просто, надо строить струги, дощаники, а самое главное для руководства экспедиции нужны преданные люди. Хорошо хоть, что перед тем как запить с Голицыным горькую, воевода распорядился послать в Пелымь вестового, к сыну боярскому, Петрушке Албычеву, с требованием немедленно явиться в Тобольск с отрядом казаков.
.***
Подьячий Агафон, запыхавшись и отдуваясь, несмело протиснулся в трапезную воеводы. Наскоро перекрестив лоб, он скороговоркой поведал Ивану Семеновичу, что ночью в Тобольск прибыл из Пелымского острога казачий отряд, во главе с сыном боярским Петькой Албычевым, да с ним промышленных людей человек сорок.
Собиравшийся было плотненько позавтракать, Иван Семенович оттолкнул медное блюдо с жареным гусем, помедлив, все-таки выпил кружку холодной медовухи и поднялся из-за стола.
***
Хоть и люты еще в феврале сибирские морозы и снежные сугробы, кое-где, достигают по целому аршину с гаком, но приближение весны уже чувствовалось. День стал значительно длиннее и ярче, снег потемнел и зачерствел. Солнце днем, почти по-летнему припекало, вселяя в души жителей Тобольска, переживших еще одну суровую сибирскую зиму, надежду и ожидание чего-то нового, необычного и радостного.
В длиннополой шубе крытой малиновым бархатом и собольей шапке-боярке, в сопровождении подьячего, Куракин, пешком направился к приказной избе.
Несмотря на ранний час на площади уже было весьма многолюдно и завидев воеводу многие горожане снимали шапки и кланялись ему в пояс. Народ уважал московского боярина. Все жители Тобольского острога знали, что попал сюда князь не по доброй воле, а сослан был царем Михаилом Федоровичем по навету злых людей из их же боярского сословия.
В глубине души Куракин понимал, что причины для его опалы, мягко говоря, у царя и бояр были, а ссылка в далекую Сибирь, все же не самое суровое наказание, за измену и предательство. Слава Богу, хоть жив остался.
Еще совсем недавно боярин князь Иван Куракин был на Москве человеком известным и влиятельным. Занимал при дворе солидные должности и входил в десятку самых знатных и богатых людей России. После свержения Васьки Шуйского, он вместе со своим лучшим другом князем Федором Мстиславским выступили инициаторами царских выборов на Московский престол.
Именно Федор тогда первым предложил короновать на российский престол пятнадцатилетнего Владислава, сына польского короля Сигизмунда Третьего. Многие бояре поддержали тогда такое предложение Мстиславского, да и Патриарх Гермоген был не против, единственно чего он хотел, так это чтобы Владислав принял православную веру.
Вот тогда-то и разошлись их пути-дорожки. Князь Иван Куракин так и остался ярым сторонником избрания на престол польского королевича, а Федор Мстиславский, возглавлявший тогда боярское правительство, вдруг внезапно изменил свое мнение и первым подписал грамоту об избрании на царство Михаила Романова. И не прогадал. Видимо знал князь Мстиславский что-то, что неведомо было ему, боярину Куракину.
С тех пор князь Федор Мстиславский в фаворе. Теперь он первый думский боярин, правая рука государя. Молва идет, что у него самое большое жалование – тысяча двести рублей в год. А вот Куракина именуют теперь не иначе как предателем и изменником, и сидит он не в Москве, а, в Сибирской глуши, в забытом господом Тобольске.
Иван Семенович, конечно, даже в своих рассуждениях, мягко говоря, лукавил. Всем известно, что хоть сибирским воеводам государственное жалование и не полагалось, зато на вверенной ему территории он сам себе был и царь и Бог. Как говорится, на белую булку с маслом вполне хватало.
Не секрет, что обладая практически неограниченной властью, воевода, основной задачей которого был сбор «ясака», мог легко утаить сотню другую шкурок ценного меха. Кроме того, при сборе «ясака» определенный процент вполне легально предназначался лично ему, так называемые «воеводские поминки». И получалось, что чем больше «ясака» он соберет, тем больший процент от этого и получит. Ну, а «объясачивание» туземцев на новых, завоеванных землях, так вообще, кроме официальных доходов, сулило еще и огромные, никем не учитываемые трофеи. К тому же за присоединение к России новых земель, государь достойно и щедро вознаграждал.
Кроме всего прочего, каждый воевода, прежде всего, был еще и помещиком, и где-нибудь в рязанской, смоленской или новгородской губернии у него в собственности были огромные имения с сотнями, а то и тысячами крепостных крестьян. В общем, жить можно было. Не зря же некоторые воеводы на свои кровные денежки снаряжали целые экспедиции на захват и колонизацию новых земель. Впоследствии все это окупалось сторицей, принося им не только богатства, но еще и славу, и уважение в обществе.
***
– Вон Черкашка Рукин уже бежит. – Заорал подьячий, отвлекая Ивана Семеновича от мрачных мыслей. – Ты воевода, уж не гневись, я без твоего ведома, спозаранку еще, за ним послал.
Иван Семенович развел руками и молча глянул на Агафона, что одинаково могло означать – «молодец казак, атаманом будешь», либо «ну и болван же ты, братец» и, вздохнув, стал грузно подниматься на высокое крыльцо приказной избы.
***
Как оказалось, с Петром Албычевым в Тобольск прибыл еще и вогульский князь Василий Кандинский. Если с Албычевым воевода был очень хорошо знаком и специально за ним послал, то Кандинского видел впервые и тот сразу же, еще с «порога», ему не понравился. Уж очень независимо для национала вел себя вогульский князь. А местному населению, особенно «остякам», Куракин не доверял и опасался их.
Однако виду князь не подал, не пристало ему перед нижними чинами характер свой показывать. Зато те, при виде воеводы, вскочили и шапки сняли.
Воевода тоже снял шапку, молча перекрестился на темные лики икон и только потом оглядел гостей.
– Будь здрав, воевода. – Почти в голос молвили они, склонив головы в знак уважения.
– Будьте и вы здоровы, служивые. Сколько казачков привел с собой? – Воевода вопросительно глянул на Албычева.
– Десять добрых казаков со мной, с полной амуницией. Хоть сейчас можем в поход выступить. Говори, кого воевать будем, воевода.
В это время хлопнула входная дверь и вместе с клубами морозного воздуха, в избу ввалился стрелецкий сотник Черкас Рукин. Молча перекрестился в красный угол, с достоинством поклонился вначале воеводе, а потом и гостям и, не сдержавшись, бросился обнимать своего старого приятеля Петра Албычева.