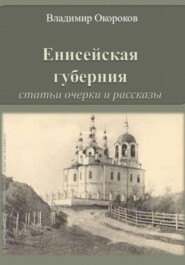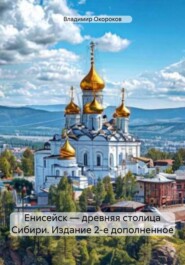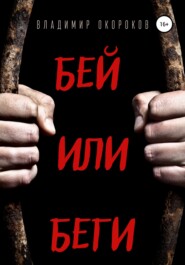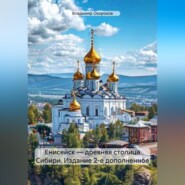По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ясак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Приехал, чертяка. А я все глаза проглядел тебя ожидаючи. Сколько же мы с тобой не виделись? Я уж и не чаял, а тут Иван Семенович и говорит, мол, с Петькой Албычевым к Енисею пойдешь. Я так и обомлел от радости такой.
– А что за напасть на Енисей-то идти? Тунгусов гонять что ли? Это можно, распоясались поди совсем, чертово семя. – Рассмеялся Петр.
– Острог на Енисее ставить будем. – Начал было Черкас, но осекся и повернулся к воеводе. – Правильно я говорю, Иван Семенович? Ведь за этим экспедицию снаряжаем?
– Государь наш Михаил Федорович так повелел. Будем на реке Енисее острог закладывать, людишек местных к присяге царской приводить, да крестить на православный манер. – Куракин обвел взглядом присутствующих и остановился на Албычеве. – Для того тех десяти казаков, что ты из Пелыми привел, маловато будет. – Воевода повернулся к сотнику. – Сколько ты, Черкас, готов стрельцов Тобольских отправить к Енисею? Чтобы только не в ущерб городской обороне было.
– Три десятка стрельцов подготовлены уже и хоть сейчас готовы выступить в поход. – Отрапортовал стрелецкий сотник.
– Это хорошо, но все равно мало – Куракин на минуту призадумался скомкав бороду в кулак и прикрыв глаза. – А есть у меня думка такая, – он снова обвел всех взглядом – полсотни казачков годовальщиков, в Кетском остроге, службу свою кончили и отправляются они сейчас домой за Каменный пояс. Кто на Яик, а кто и подальше, на Дон. Ты, Петруша, с ними потолкуй, может кто из них и изъявит желание службу в Сибири продолжить уже под твоим началом. Тем более что недовольны они службой у Кетского воеводы Челищева, возвращаться к нему обратно, через год, не хотят.
– Потолковать-то оно конечно можно. Только сам же говоришь, воевода, что не хотят они больше служить в Сибири. – Развел руками Албычев.
– Так то, у Челищева они служить не хотят, а тебя-то они ведь еще и не знают. Посули прибавку к жалованию, да кормовых чуток прибавь вот они и клюнут. Имей в виду, Петр, государь наш Михаил Федорович рассчитывает, что острог новый не только границы государства российского раздвинет, но и поможет казну государеву пополнить за счет новых ясачных земель, а потому денег казенных на это жалеть никто не станет.
– Для такого дела я бы тоже мог полсотни своих ратников выделить, – встрял в разговор вогульский князь Василий. До этого он смиренно молчал и только головой крутил, не понимая о чем говорит, этот строгий бородатый воевода.
– Тебе, князь, разве гоже со своими-то соплеменниками воевать? – Сурово покосился на национала воевода. Возвращайся-ка ты лучше в свою вотчину «кондинскую», да обеспечь мне «ясак» как полагается. У тебя, князь, за прошлый год еще недоимка имеется, а уж пришла пора новых платежей. Вон Агафон не даст соврать. – Куракин повернулся к подьячему. – Верно, я говорю, Агафон?
– Ей Богу, должок имеется. У меня и расписка «кабальная» есть, все чин по чину. – Поклонился неизвестно кому, подьячий и стал зачем-то перебирать бумаги на своем столе.
Воевода помолчал, собираясь с мыслями, покряхтел, прикидывая как бы ему побыстрее, да повежливее, отделаться от надоедливого национала и не придумав ничего лучшего, пробурчал.
– Вы с дороги-то в баньку сходите. Агафон вон организует, а потом всех к себе прошу отобедать. Там все и обговорим. – И кивнув, вышел.
***
Воевода был недоволен собой. Ему, еще совсем недавно ближнему боярину и князю, приходится приглашать к своему столу безродного дикого туземца. Но ничего не поделаешь, князь Василий Кандинский теперь даже и при дворе царском личность известная. Года три назад предыдущий воевода Тобольский, князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский, в Москву его привозил. Правда, Ивану Семеновичу познакомиться с ним тогда не пришлось, Бог миловал, был он в то время в Смоленске. Но знал, что государь национала всячески обласкал, вознаградил и именовал его не иначе как – князь.
На воеводу снова нахлынул целый ворох уже давно забытых и путаных воспоминаний, вдруг отчетливо и ярко всплывших в его сознании.
– Старею, наверное. – С горечью отметил Иван Семенович и ему до боли, вдруг захотелось туда, за Каменный пояс. Нет, не в Москву, а в одно из отцовских имений Ковригино, где они вместе со своей сестренкой Марией, под присмотром многочисленных тетушек, нянек и дядек, провели все свое детство.
Князь Иван получил неплохое, по тем временам, домашнее образование. К восьми годам он легко и бойко читал «Часослов», «Псалтырь» и «Деяния апостолов». Свободно говорил и писал на польском, латинском и греческом языках. Знал географию, историю и арифметику.
Был Иван парнишкой рослым, хорошо сложенным и когда ему только-только стукнуло семнадцать лет, заступил на государеву службу.
Начинал он службу рындой еще при дворе Федора Ивановича, сыне Ивана Грозного, а скоро князь Иван уже стал воеводой и наместником Смоленским.
– Все складывалось как нельзя лучше, пока не связался он с князем Мстиславским. – Поморщился, вспоминая, воевода, вздохнул, смачно сплюнул в снег и перекрестился.
. – Где они теперь все эти бояре, ратовавшие посадить на трон польского щенка. Присягавшие всем, кому только придется, от самозванцев Дмитриев до этой потаскухи Марины Мнишек?
Если бы не новгородские ополченцы князя Пожарского, да этого солевара Минина, сгинула бы матушка Россия. – Иван Семенович словно забыл, что сам был сторонником польского королевича и просто не успел, или не сумел, как его друг Федька Мстиславский, вовремя разобраться в сложившейся тогда ситуации.
Воевода схватился за грудь и остановился, переводя дух. Последнее время его сильно мучила одышка, сердцебиение и приливы крови к голове. Много раз бывая, в боях и сечах, к смерти воевода относился, без страха, но с уважением, как и подобает православному христианину. Где-то там, на Смоленщине, которую в прошлом году по договору «Деулинского перемирия» отдали полякам, до сих пор, наверное, живет его жена Гликерия. Детей воеводе Бог не дал, может потому он к своей супруге и относился с прохладцей, вспоминая о ней лишь иногда.
– Даже если и умру я, не приведи Господи, – воевода остановился и перекрестился – то и оплакать-то меня некому. – Он вдруг вспомнил, как два года назад, как раз почитай в эту пору, здесь в Тобольске скончался его помощник и второй воевода, князь Григорий Иванович Гагарин, так его с обозом увезли в Москву. – А меня, наверное, здесь в Сибири и похоронят.
Почему-то вдруг снова вспомнилась старшая сестра княгиня Мария. Как она там, здорова ли? По иронии судьбы муж ее, князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский, был до Куракина здесь же в Тобольске, воеводой, целых два года. В Сибири он тоже жил один, оставив в Москве Марию Семеновну с малолетним сыном Алексеем.
Теперь князь Буйносов у государя Михаила Федоровича «кравчим» числится. Люди сказывают, большим уважением пользуется он при Царском дворе.
Воевода вдруг понял, что давно стоит возле собственного терема, а глухонемой конюх Ефим, размахивая руками, пытается ему что-то сказать.
– Ну что ты крыльями-то машешь? – Рассердился воевода – нешто я могу это разобрать.
Но от дома уже бежала Степанида, она-то и доложила, что прибыли, мол, люди с Кетского острога от воеводы Челищева и в людской боярина дожидаются.
– Ну что ж, еще одна благая весть. – Перекрестился Иван Семенович и прямиком направился к избе, где в настоящее время кроме кучера никто не проживал.
***
К началу апреля отряд для экспедиции к берегам Енисея практически был уже укомплектован. В его состав входили тридцать казаков, столько же стрельцов и около полусотни промышленных, да мастеровых и праздношатающихся столько же набралось.
Поскольку путь к Енисею был не близкий, а маршрут неизвестный и опасный, то основной тяжестью, кроме продуктов, конечно же, было оружие и боеприпасы.
По сложившейся среди путешественников традиции и обычаю, каждый человек должен нести у себя за плечами не менее двух с половиной пудов груза.
В данном случае ситуацию осложняло то, что люди шли не только в неизвестность. Им предстояло там жить, строить жилье, обустраиваться не на один год, а навсегда и возможно отстаивать свои поселения, а может даже жизнь, с оружием в руках.
По приказу воеводы Куракина в Тобольск от воеводы Челищева прибыли двое казаков. Они, когда-то, во главе с десятским Иваном Кайдаловым, собирая по остяцким стойбищам ясак, уже бывали в тех местах и даже участвовали в боях с националами, кочующими по берегам таежных рек Кети и Кеми, вплоть до самого Енисея. Места они помнили и хоть без особой охоты, но брались показать дорогу к Енисею.
***
Когда, настало время и ранним утром, с первыми лучами солнца, струги наконец-то отчалили от берега и стали удаляться вниз по Иртышу, казакам, еще долго, была видна одинокая фигура Тобольского воеводы, князя Ивана Семеновича Куракина.
Глава 2. Путь длиною в тысячи верст
Лишь только через месяц караван, наконец-то, добрался до Оби. Пока, что плавание проходило относительно спокойно, без всяких осложнений и препятствий, но тем не менее, перед следующим, более сложным, этапом пути необходимо было устроить длительную стоянку.
Дальше отряду предстояло уже не плыть вниз по течению, а идти пешком по берегу вдоль русла реки, да еще и тащить за собой бечевой всю эту многочисленную флотилию.
Разведчики, месяц назад посланные воеводой Куракиным, уже целую неделю поджидавшие на берегу караван. Еще издали заметив его, запалили большие костры и подбрасывая в огонь березовую кору, придававшую дыму черный цвет, как бы сигнализируя таким образом, что видят их и ждут.
На передних стругах казаки тоже заметили вдали столбы черного дыма и тут же доложили начальству. Те облегченно вздохнули. Вроде все шло пока, как и планировали, «без сучка и задоринки».
Сплав, даже по относительно спокойной и широкой реке, практически, почти везде с пологими берегами, тоже уже изрядно всем надоел. И люди догадываясь, что предстоит долгая стоянка, ожили и повеселели.
Можно, будет наконец-то, побродить по твердой земле, сходить на охоту, да просто одежду просушить у костра. Ведь как назло, в этом году и май, и начало июня выдались на редкость холодными и дождливыми.
Тяжелые, иссиня-черные тучи на протяжении почти всего пути день и ночь низко висели над рекой и нудно моросили, навевая безнадежную тоску и досаду. От этой сырости и холода негде было укрыться, обсушиться и согреться. Многие казаки простыли и заболели. Трое слегли, пылая жаром, один мастеровой даже умер.
В общем чтобы хоть как-то уберечь людей и приободрить их большая стоянка была не только полезна, но даже необходима.
***
Наскоро разбитый на высоком берегу лагерь скоро задымил кострами, из котлов валил пар. Истосковавшиеся по горячей пище люди варили пшеничную кашу, уху из свежей, только что выловленной, рыбы, которой в Иртыше водилось неимоверное количество.