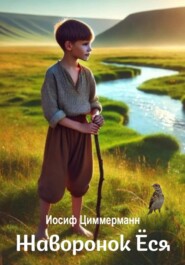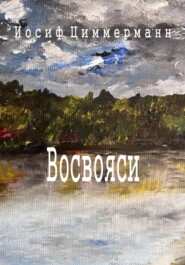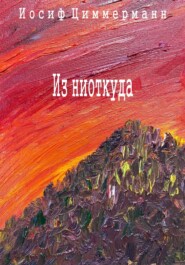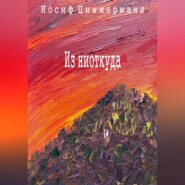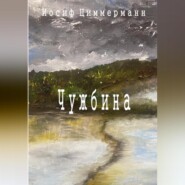По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Амалин век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мария Кузьминична встала и подошла к матери с новорожденным. Она положила пахнущую хлоркой и йодом ладонь на плечо Амалии и глядя ей в глаза участливо сказала:
– Мало того, что у ребенка официально нет отца, идет война с Германией, так ты ему еще и немецкое имя решила дать. Ты что, враг своему дите? Хочешь, чтобы его здесь со свету сжили?
– Мой муж просил, если будет сын, назвать Николаусом. Он мне с фронта в письме это написал. Я могу показать.
Амалия действительно попыталась достать бумаги, которые у нее были спрятаны в потайном кармашке на груди, но Мария Кузьминична остановила ее.
– Я и так верю. Но дело не в этом. Ребенку надо дать более русское имя. Вот что похоже на ваше Николаус? Николай! Запишем мальчика Колей. Отцу потом объяснишь…
Жети ата – дерево жизни
Зима осталась бесснежной. Весенние дожди тоже обошли район Шубар-Кудука стороной. Совхозные отары овец, в поисках подножного корма, подобрали в ближайшей округе практически каждое зернышко и былинку, умудрились даже докопаться и поглотить корни многолетней полыни. Так что проснувшейся из зимней спячки степи чисто биологически не осталось чем себя позеленить.
Саркен выбился из сил, пытаясь найти корма для скота. А тут еще и напряженная пора массового окота овец началась. Местные животноводы называют ее сакман. До войны в этот весенний период каждый работник был на счету. Даже старшеклассников привлекали для помощи чабанам. Сейчас же не только всех мужчин из совхоза на фронт забрали, но и с засухой приходилось бороться. Федотенко отправил две женские бригады в отдаленный город Эмба. Там в районе одноименной реки обильно рос камыш. Конечно, не самый подходящий корм для скота, но лучше, чем ничего.
А с окотом овец в этот раз должны были помочь безрогие немки из соседнего женского лагеря. Получив пару бутылок самогона и три бараньи туши, комендант согласился выделить на сакман небольшую группу заключенных. За несколько дней до их прибытия директор совхоза в своем кабинете самолично сообщил Саркену о выгодной сделке:
– На три месяца десять бесплатных работников!
– А как же с их охраной? – намекая на то, что это подневольные, испуганно спросил чабан.
– Во-первых, объяснишь им, что в степи бежать некуда, – указательным пальцем правой руки Федотенко загнул мизинец своей левой ладони, – от жажды сдохнут или волки их сожрут.
– Во-вторых, – он загнул безымянный палец, – на свежем воздухе им будет лучше, чем в шахте под землей.
– А, в-третьих, – директор совхоза задумался на минуту и, не загибая дальше средний палец, просто махнул в сторону чабана, – это твоя проблема, сам ее и решай…
В один из дней середины марта к совхозным кошарам прибыла помощь из зоны. Группу никто не охранял. Проводником у немок оказался десятилетний Тимур. Почти двадцать километров по бездорожью мальчишка умудрился не заблудиться и к полудню вывел группу к чабанской точке.
– Ойбай! – взвыл Саркен, как раз пригнавший в это время отару на водопой к расположенному возле его жилища пруду.
Как в цыганском таборе, у каждой женщины на руках было по ребенку. Вообще-то дети стали неожиданностью в лагере. Ведь из мест высылки в эшелоны погрузили исключительно бездетных взрослых, но никто не додумался проверить женщин на беременность. А таких, как оказалось, было немало. Некоторые немки родили во время многонедельной транспортировки или уже по прибытии в лагерь.
Кормящие матери как рабочая сила не представляли интереса для шахты и были скорее обузой. Видимо, желая избавиться от лишних ртов на зоне, Шенкер распорядился отправить на сакман всех заключенных с детьми.
– Вот же еврей! – воскликнул Саркен и со злостью хлопнул себя кнутом по сапогу. Он не счел нужным подойти и поговорить с присланными работницами и после короткого перерыва снова погнал отару на пастбище.
Чабан позже расскажет об этом директору совхоза. Но Федотенко даже не удивится. На месте коменданта Шенкера он наверняка поступил бы так же.
– Немкам выдавать десять пайков и ни грамма больше, – приказал начальник, – их приплод я кормить не собираюсь.
Саркен многозначительно переглянулся с матерью, с трудом сдерживая усмешку: “Кто бы говорил?”
Шел девятый месяц войны, все взрослые мужчины уже давно были на фронте, а в ауле почему-то только сейчас появились недавно забеременевшие женщины. И, как бы Федотенко ни хотел это скрыть, в совхозе уже догадывались, кто именно умудрился обрюхатить нескольких казахских вдов.
Выйдя из помещения управления совхоза, Жамиля все же дала волю словам:
– Посмотрим, как он своих бастардов вскармливать станет…
В маленькой чабанской мазанке – единственном жилом помещении на точке – немки с детьми не то что лежа или сидя, даже стоя впритык не поместились бы. Нужно было срочно организовать им крышу над головой.
Испокон веков незаменимой и неотъемлемой частью жизни кочевников была юрта. Она и в морозы согреет, и в жару подарит прохладный тенек. Ее конструкция проста, а детали компактны и легки. Это жилище можно воздвигнуть силами одной семьи в течение одного часа.
Найти юрту оказалось проще простого. На железнодорожной станции Шубар-Кудук в бараках их хранилось более чем предостаточно. Перед революцией, когда казахам запретили кочевать, царские чиновники в окружности изъяли их и свезли туда сотнями. Прошло около тридцати лет, а они сохранились. Придумать им другое применение, видимо, было некому. Еще до прихода группы немок к чабанской точке добралась загруженная решетчатыми складными стенками и войлоком на огромных колесах арба. Управляли бычьей упряжкой две старые казашки, которых Федотенко тоже направил на помощь чабану. Калима и Акжибек с трудом слезли с высокой телеги, выпрягли из сбруи огромных полтораметровой ширины рогов вола и отправились с ним на водопой.
Никто в ауле толком и не знал, сколько лет этим двум старушкам, но все помнили, что, когда создавали совхоз, их уже тогда из-за возраста не стали оформлять на работу.
– Живы еще Калимжибечки? – часто именно так приветствовали при встрече друг друга односельчане аула.
Калима и Акжибек уже в силу своего почтенного возраста были так неразлучны, что даже их имена стали произносить слитно – Калимжибечки.
Они и сами никогда не поверили бы, что им еще придется устраиваться на работу в совхоз. Но их мужья давно умерли, а всех кормильцев из числа сыновей и зятьев мобилизовали на войну. Продовольственные пайки, помимо работников совхоза, тогда полагались лишь нетрудоспособным вдовам и членам семей погибших фронтовиков. Калимжибечки таковыми не числились, поэтому им на старости лет пришлось снова самим зарабатывать себе на пропитание.
В эти мартовские дни температура ночами еще опускалась ниже нуля, а днем весеннее солнце уже палило нещадно. Дав напиться изнемогающим от жажды быкам, Калима и Акжибек, перевязав им ноги, отпустили пастись, а сами вернулись к арбе. Толпа немецких женщин с детьми уже сидела вокруг телеги и одновременно кормили грудью детей. Одна из них с русой, туго заплетенной и уложенной как венец вокруг головы косой, прикрывая цветастым платком лицо сладко причмокивающего младенца, на русском языке тихонечко напевала колыбельную:
Ветер степи облетает, баю-бай.
Мама Коленьку качает, баю-бай.
Засыпай ты мой родной, баю-бай.
Свою душу успокой, баю-бай!..
Заметив пристальные взгляды старушек, женщина решила представиться:
– Меня зовут Амалия. Тимур сказал, что мы теперь здесь жить будем.
– Под арба? – стараясь не разбудить младенца на плохом русском тихо спросила низкого роста Калима и, суматошно размахивая руками, полушепотом потребовала: – Всем вставать! Надо юрта делать.
Никто из немок не пошевелился. Они переглядывались между собой, как будто не понимали, что от них тут хотят. Заметив это, казашка добавила:
– Юрта для твой дом строить будем! Вставай все!
– Да какие из нас строители? – не удержалась одна из них. – Я даже не знаю, как оно выглядит.
– А куда нам детей прикажете деть? – возмутилась другая. – Не бросать же их тут на солнцепеке.
– Вдруг здесь волки водятся, – подливала масло в огонь третья.
Калима застыла с распростертыми руками и лишь растерянно и недоуменно посматривала то на одну, то на другую мамашу.
– Ты жыт на улиц хотел? – наконец-то раздраженно и громко прервала она их возмущения.
Немки враз притихли, но взамен их голосов округу разорвал детский рев. Не переставая убаюкивать своего младенца, Амалия поднялась с земли и предложила:
– А давайте отнесем детей в пастуший домик. Там ведь надежнее.
– Я своих одних не оставлю, – категорично заявила женщина в коротком овчинном тулупе, из ворота которого выглядывала горловина сорочки с цветочной вышивкой по краю.
“Кто бы сомневался?!” – недобро подумала Амалия и даже не повернула в ее сторону головы.
Она по голосу поняла, что это была Ирма Эльцер – неизменная запевала части немок, высланных из Украины. К счастью, ее не разлучили с матерью Фридой, ибо в пути у Ирмы родились двойняшки – Оскар и Эрнст, одного из которых теперь не выпускала из своих рук моложавая бабушка.
– Мало того, что у ребенка официально нет отца, идет война с Германией, так ты ему еще и немецкое имя решила дать. Ты что, враг своему дите? Хочешь, чтобы его здесь со свету сжили?
– Мой муж просил, если будет сын, назвать Николаусом. Он мне с фронта в письме это написал. Я могу показать.
Амалия действительно попыталась достать бумаги, которые у нее были спрятаны в потайном кармашке на груди, но Мария Кузьминична остановила ее.
– Я и так верю. Но дело не в этом. Ребенку надо дать более русское имя. Вот что похоже на ваше Николаус? Николай! Запишем мальчика Колей. Отцу потом объяснишь…
Жети ата – дерево жизни
Зима осталась бесснежной. Весенние дожди тоже обошли район Шубар-Кудука стороной. Совхозные отары овец, в поисках подножного корма, подобрали в ближайшей округе практически каждое зернышко и былинку, умудрились даже докопаться и поглотить корни многолетней полыни. Так что проснувшейся из зимней спячки степи чисто биологически не осталось чем себя позеленить.
Саркен выбился из сил, пытаясь найти корма для скота. А тут еще и напряженная пора массового окота овец началась. Местные животноводы называют ее сакман. До войны в этот весенний период каждый работник был на счету. Даже старшеклассников привлекали для помощи чабанам. Сейчас же не только всех мужчин из совхоза на фронт забрали, но и с засухой приходилось бороться. Федотенко отправил две женские бригады в отдаленный город Эмба. Там в районе одноименной реки обильно рос камыш. Конечно, не самый подходящий корм для скота, но лучше, чем ничего.
А с окотом овец в этот раз должны были помочь безрогие немки из соседнего женского лагеря. Получив пару бутылок самогона и три бараньи туши, комендант согласился выделить на сакман небольшую группу заключенных. За несколько дней до их прибытия директор совхоза в своем кабинете самолично сообщил Саркену о выгодной сделке:
– На три месяца десять бесплатных работников!
– А как же с их охраной? – намекая на то, что это подневольные, испуганно спросил чабан.
– Во-первых, объяснишь им, что в степи бежать некуда, – указательным пальцем правой руки Федотенко загнул мизинец своей левой ладони, – от жажды сдохнут или волки их сожрут.
– Во-вторых, – он загнул безымянный палец, – на свежем воздухе им будет лучше, чем в шахте под землей.
– А, в-третьих, – директор совхоза задумался на минуту и, не загибая дальше средний палец, просто махнул в сторону чабана, – это твоя проблема, сам ее и решай…
В один из дней середины марта к совхозным кошарам прибыла помощь из зоны. Группу никто не охранял. Проводником у немок оказался десятилетний Тимур. Почти двадцать километров по бездорожью мальчишка умудрился не заблудиться и к полудню вывел группу к чабанской точке.
– Ойбай! – взвыл Саркен, как раз пригнавший в это время отару на водопой к расположенному возле его жилища пруду.
Как в цыганском таборе, у каждой женщины на руках было по ребенку. Вообще-то дети стали неожиданностью в лагере. Ведь из мест высылки в эшелоны погрузили исключительно бездетных взрослых, но никто не додумался проверить женщин на беременность. А таких, как оказалось, было немало. Некоторые немки родили во время многонедельной транспортировки или уже по прибытии в лагерь.
Кормящие матери как рабочая сила не представляли интереса для шахты и были скорее обузой. Видимо, желая избавиться от лишних ртов на зоне, Шенкер распорядился отправить на сакман всех заключенных с детьми.
– Вот же еврей! – воскликнул Саркен и со злостью хлопнул себя кнутом по сапогу. Он не счел нужным подойти и поговорить с присланными работницами и после короткого перерыва снова погнал отару на пастбище.
Чабан позже расскажет об этом директору совхоза. Но Федотенко даже не удивится. На месте коменданта Шенкера он наверняка поступил бы так же.
– Немкам выдавать десять пайков и ни грамма больше, – приказал начальник, – их приплод я кормить не собираюсь.
Саркен многозначительно переглянулся с матерью, с трудом сдерживая усмешку: “Кто бы говорил?”
Шел девятый месяц войны, все взрослые мужчины уже давно были на фронте, а в ауле почему-то только сейчас появились недавно забеременевшие женщины. И, как бы Федотенко ни хотел это скрыть, в совхозе уже догадывались, кто именно умудрился обрюхатить нескольких казахских вдов.
Выйдя из помещения управления совхоза, Жамиля все же дала волю словам:
– Посмотрим, как он своих бастардов вскармливать станет…
В маленькой чабанской мазанке – единственном жилом помещении на точке – немки с детьми не то что лежа или сидя, даже стоя впритык не поместились бы. Нужно было срочно организовать им крышу над головой.
Испокон веков незаменимой и неотъемлемой частью жизни кочевников была юрта. Она и в морозы согреет, и в жару подарит прохладный тенек. Ее конструкция проста, а детали компактны и легки. Это жилище можно воздвигнуть силами одной семьи в течение одного часа.
Найти юрту оказалось проще простого. На железнодорожной станции Шубар-Кудук в бараках их хранилось более чем предостаточно. Перед революцией, когда казахам запретили кочевать, царские чиновники в окружности изъяли их и свезли туда сотнями. Прошло около тридцати лет, а они сохранились. Придумать им другое применение, видимо, было некому. Еще до прихода группы немок к чабанской точке добралась загруженная решетчатыми складными стенками и войлоком на огромных колесах арба. Управляли бычьей упряжкой две старые казашки, которых Федотенко тоже направил на помощь чабану. Калима и Акжибек с трудом слезли с высокой телеги, выпрягли из сбруи огромных полтораметровой ширины рогов вола и отправились с ним на водопой.
Никто в ауле толком и не знал, сколько лет этим двум старушкам, но все помнили, что, когда создавали совхоз, их уже тогда из-за возраста не стали оформлять на работу.
– Живы еще Калимжибечки? – часто именно так приветствовали при встрече друг друга односельчане аула.
Калима и Акжибек уже в силу своего почтенного возраста были так неразлучны, что даже их имена стали произносить слитно – Калимжибечки.
Они и сами никогда не поверили бы, что им еще придется устраиваться на работу в совхоз. Но их мужья давно умерли, а всех кормильцев из числа сыновей и зятьев мобилизовали на войну. Продовольственные пайки, помимо работников совхоза, тогда полагались лишь нетрудоспособным вдовам и членам семей погибших фронтовиков. Калимжибечки таковыми не числились, поэтому им на старости лет пришлось снова самим зарабатывать себе на пропитание.
В эти мартовские дни температура ночами еще опускалась ниже нуля, а днем весеннее солнце уже палило нещадно. Дав напиться изнемогающим от жажды быкам, Калима и Акжибек, перевязав им ноги, отпустили пастись, а сами вернулись к арбе. Толпа немецких женщин с детьми уже сидела вокруг телеги и одновременно кормили грудью детей. Одна из них с русой, туго заплетенной и уложенной как венец вокруг головы косой, прикрывая цветастым платком лицо сладко причмокивающего младенца, на русском языке тихонечко напевала колыбельную:
Ветер степи облетает, баю-бай.
Мама Коленьку качает, баю-бай.
Засыпай ты мой родной, баю-бай.
Свою душу успокой, баю-бай!..
Заметив пристальные взгляды старушек, женщина решила представиться:
– Меня зовут Амалия. Тимур сказал, что мы теперь здесь жить будем.
– Под арба? – стараясь не разбудить младенца на плохом русском тихо спросила низкого роста Калима и, суматошно размахивая руками, полушепотом потребовала: – Всем вставать! Надо юрта делать.
Никто из немок не пошевелился. Они переглядывались между собой, как будто не понимали, что от них тут хотят. Заметив это, казашка добавила:
– Юрта для твой дом строить будем! Вставай все!
– Да какие из нас строители? – не удержалась одна из них. – Я даже не знаю, как оно выглядит.
– А куда нам детей прикажете деть? – возмутилась другая. – Не бросать же их тут на солнцепеке.
– Вдруг здесь волки водятся, – подливала масло в огонь третья.
Калима застыла с распростертыми руками и лишь растерянно и недоуменно посматривала то на одну, то на другую мамашу.
– Ты жыт на улиц хотел? – наконец-то раздраженно и громко прервала она их возмущения.
Немки враз притихли, но взамен их голосов округу разорвал детский рев. Не переставая убаюкивать своего младенца, Амалия поднялась с земли и предложила:
– А давайте отнесем детей в пастуший домик. Там ведь надежнее.
– Я своих одних не оставлю, – категорично заявила женщина в коротком овчинном тулупе, из ворота которого выглядывала горловина сорочки с цветочной вышивкой по краю.
“Кто бы сомневался?!” – недобро подумала Амалия и даже не повернула в ее сторону головы.
Она по голосу поняла, что это была Ирма Эльцер – неизменная запевала части немок, высланных из Украины. К счастью, ее не разлучили с матерью Фридой, ибо в пути у Ирмы родились двойняшки – Оскар и Эрнст, одного из которых теперь не выпускала из своих рук моложавая бабушка.
Другие электронные книги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Другие аудиокниги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Чужбина




 0
0