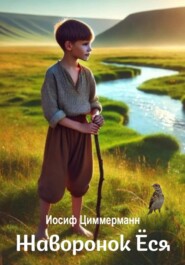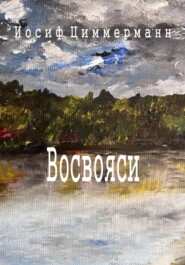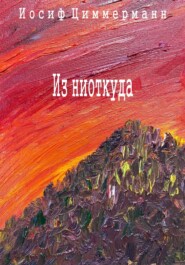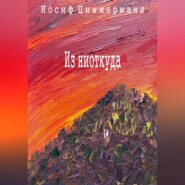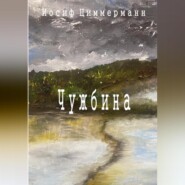По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Амалин век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Засуха прошлого года привела к сокращению численности скота. Бывший городской работник парткома практически круглосуточно не вылезал из седла, объезжая окраины в поисках катастрофично недостающих кормов.
В то же время совхозу постоянно повышали государственные нормы по мясопоставкам.
– Все для фронта! – одинаково объясняли и требовали в райисполкоме.
В этой ситуации было бы логичным отправлять на мясобойню еще больше овец. Но как тогда выполнить повышенные планы увеличения поголовья скота?
– Тот же Полторарубля говорил, – на скаку рассуждал Федотенко, – что овцы могут жить от двенадцати до двадцати пяти лет и чаще всего приносят минимум по два ягненка в год. А это значит, что, зарезав лишь одну овцу, можно потерять до пятидесяти голов.
Конечно же, директор совхоза в этот момент излишне взвинчивал себе нервы, иначе бы он вспомнил полностью всю речь Саркена, который ему пояснял, что каждую овцу в принципе не целесообразно держать более семи – восьми лет, ибо у них потом быстро стираются зубы, шерсть становится непригодной для использования, а мясо жестким.
Мысль о хромом чабане и сложившаяся в воображении неимоверная цифра нерожденного поголовья скота заставили Федотенко судорожно передернуться всем телом. Он резко и сильно хлестнул по крупу коня плетеной нагайкой, которая с недавних пор стала его неизменной спутницей.
Ко всему еще Артема Матвеевича раздражал его неналаженный, почти холостяцкий быт. Никто за ним не ухаживал, ибо супруга с детьми осталась жить в городе и категорически отказывалась перебираться к нему в «сельскую дыру». Именно так она называла его новое место работы, в чем, несомненно, была права. У Федотенко порой даже закрадывалась мысль, что она просто его не любит. «Подруга дней моих суровых» должным образом не оценила те старания, которые ему пришлось предпринять, чтобы избежать мобилизации на фронт. Он хотел как лучше для семьи, а в результате оказался один в изгнании. Казалось, что, если поставить женушку перед выбором: остаться вдовой красноармейца или жить в ауле – она все равно выбрала бы жизнь в городе.
– Тут и без похмелья голова с утра трещать будет, – пожалел себя директор совхоза…
Через четверть часа Федотенко уже приблизился к территории шахты. Колючая проволока высвечивалась серебром на солнце, а от новостроек пилорамы, трех длинных бараков, нескольких подсобных зданий и вышек для охраны несло свежей древесиной.
Многометровой высоты гора желтых опилок своей свежестью несуразно смотрелась на фоне пыльной окружности. Из Оренбурга прикомандировали трех рамщиков и пятерых плотников. На пилораме теперь круглосуточно помимо досок для бараков изготавливали крепежи, опоры и подпорки для тоннелей шахты.
Жители аула подсчитали, что на зоне могли поместиться до пяти сотен людей.
– Оно так и выходит, – прикинул директор, – двенадцать вагонов по сорок немок, плюс охранники и управление.
Неделю назад на зоне появился комендант. Низкорослый и толстый чиновник, чья лысина всегда сверкала как начищенная.
– Интересно, чем он ее полирует? – при виде коменданта шептались аульные злые языки.
За круглыми и толстыми стеклами очков скрывались маленькие, всегда прищуренные глазки Шенкера. Михаил Ильич всегда носил военную форму, хотя не имел звания и был откомандирован на эту должность из Воронежского обкома партии.
Надо отдать должное, организацией охраны и быта будущих заключенных зоны он с первых же дней руководил так хорошо, как будто всю жизнь только этим и занимался. Присланные горные инженеры так же удивлялись, как быстро Шенкер освоился с основными принципами шахтерского дела и активно участвовал в формировании норм добычи угля. К тому же Михаил Ильич смог убедить райисполком в том, что соседний совхоз в состоянии взять шефство над рабочими шахты.
Директору совхоза и коменданту лагеря сегодня предстояло договориться о количестве и сроках поставок мяса для заключенных.
На пункте пропуска Федотенко спешился и привязал коня к одному из столбов ограды.
– Где здесь комендант? – обратился он к охраннику. – Товарищ Шенкер назначил мне встречу…
***
В это время на разъезде любопытство местных жителей, разочарованных отсутствием сенсации, значительно поубавилось и оставшиеся лишь вынужденно и почти безразлично наблюдали за разгрузкой эшелона безрогих пассажиров.
А вот сотни выстроившихся в колонну немок, наоборот, с открытым интересом буквально до мелочей рассматривали толпу собравшихся на них поглазеть казахов. Инородный внешний вид встречающих пугал и забавлял одновременно. Прибывшим могло показаться, что их полукругом огораживает сплошная стена из меховых больших шапок на головах стариков и подростков, женских высоких головных уборов, наподобие накрученных в форме бидона многометровой белой ткани и конусообразных с перьями на макушках колпаков у девушек. Темные, широкие, как будто приплюснутые лица с непривычно узким разрезом глаз были европейкам в диковинку. Уроженцы казахстанской степи, одетые в разношерстные овечьи тулупы, большинство восседающих на спинах лошадей и верблюдов, должны были показаться немкам чуть ли не дикарями, а звуки столь незнакомой им восточной речи напоминали шаманское заклинание духов. Некоторые из женщин в строю колонны уже осеняли свои лица крестным знамением, вероятно, невольно рисуя в голове сцены ворожбы местных колдунов, приносящих одну из них в жертву своим богам.
Как немки ни старались прислушаться и понять, но казахский язык казался им набором случайных и бессмысленных звуков.
– Абракадабра! – прокричала в сторону зевак одна из женщин в мужском бушлате, держа на руках закутанного в байковое одеяльце младенца.
Будто в ответ двое казахских старушек через головы оцепления стали кидать в колонну маленькие серые камушки. Немки старались уклониться от болезненных ударов, как им показалось светлой гальки железнодорожного полотна, а матери инстинктивно прикрывали своим телом детей.
В этот момент неожиданно в сторону местных зевак в темпе направился один из солдат-проводников. Напуганные его приближением обе пожилые шкодницы быстро скрылись за спинами своих односельчан.
– Есть тут врач? – крикнул солдат на ходу. – В вагоне женщина рожает.
– Ойбай! – раздалось в очередной раз над степью…
Беременную на носилках принесли в медпункт, расположившийся в несуразной маленькой деревянной пристройке. Амбулатория, видимо, изначально тут и не планировалась. Спартанским было и ее убранство: у окна ютился покрытый белой простыней столик, рядом с ним деревянная табуретка, возле задней стенки расположилась кушетка, а у печи, выложенной из красного кирпича стояла ширма. Всем было известно, что за ней жила работница амбулатории.
Фельдшеру, Марии Кузьминичне, уже не раз доводилось принимать роды. Прогнав из комнаты зевак, она уверенно оказывала необходимую помощь лежащей на кушетке в схватках женщине лет тридцати.
В этот раз тоже все обошлось. Запеленав новорожденного в кусок белой простыни, акушерка передала ребенка матери.
– Поздравляю! – садясь за стол, облегченно произнесла Мария Кузьминична. – У вас родился сын. Остатки простыни можете забрать с собой, разрежьте на сменные пеленки.
– Спасибо вам! – с кушетки раздался слабый голос.
– Будем оформлять, – фельдшер открыла лежащий на столе журнал, – ваше имя, фамилия и дата рождения?
– Амалия Лейс, 19 сентября 1910 года.
– Отец ребенка?
– Давид Шмидт, 1919 года рождения.
– Число и месяц?
– Не знаю, – призналась Амалия.
Фельдшер с удивлением посмотрела на немку, но ничего не сказала по этому поводу. А Амалия с ужасом для себя призналась, что она практически ничего не знала о жизни своего Давида. Даже день его рождения. Он ведь никогда его не праздновал. Жизнь и работа в коллективе совхоза была подчинена лишь одной идее – строительству светлого будущего. При этом абсолютно не хватало времени на что-то личное, тех же разговоров и воспоминаний о прошлом и предках.
– А почему у вас разные фамилии?
– Мы не успели расписаться. Его забрали на фронт.
– Ну, тогда вообще тут не о чем говорить. Без документа бракосочетания или личного согласия мужчины я не могу записать его как отца.
Амалия склонила голову над ребенком и тяжело вздохнула, она совсем забыла о письме Давида, в котором он так радовался скорому рождению их совместного ребенка. Женщина не нашла в себе сил, чтобы возразить. Депортация из Поволжья – когда у нее отобрали все документы, почти двухмесячная дорога в телячьем вагоне, нередко без воды и хлеба, плюс еще беременность – кажется навсегда отбили у нее желание возмущаться.
– Мой муж на фронте, пропал без вести, – все же тихо промолвила она.
– Поставим прочерк, – тяжело вздохнув постановила фельдшер, – как сына назовешь-то?
– Николаус, – у Амалии был готов ответ.
– Что за имя такое? – оторвала свой взгляд от журнала фельдшер.
– Немецкое. В честь его дедушки.
В то же время совхозу постоянно повышали государственные нормы по мясопоставкам.
– Все для фронта! – одинаково объясняли и требовали в райисполкоме.
В этой ситуации было бы логичным отправлять на мясобойню еще больше овец. Но как тогда выполнить повышенные планы увеличения поголовья скота?
– Тот же Полторарубля говорил, – на скаку рассуждал Федотенко, – что овцы могут жить от двенадцати до двадцати пяти лет и чаще всего приносят минимум по два ягненка в год. А это значит, что, зарезав лишь одну овцу, можно потерять до пятидесяти голов.
Конечно же, директор совхоза в этот момент излишне взвинчивал себе нервы, иначе бы он вспомнил полностью всю речь Саркена, который ему пояснял, что каждую овцу в принципе не целесообразно держать более семи – восьми лет, ибо у них потом быстро стираются зубы, шерсть становится непригодной для использования, а мясо жестким.
Мысль о хромом чабане и сложившаяся в воображении неимоверная цифра нерожденного поголовья скота заставили Федотенко судорожно передернуться всем телом. Он резко и сильно хлестнул по крупу коня плетеной нагайкой, которая с недавних пор стала его неизменной спутницей.
Ко всему еще Артема Матвеевича раздражал его неналаженный, почти холостяцкий быт. Никто за ним не ухаживал, ибо супруга с детьми осталась жить в городе и категорически отказывалась перебираться к нему в «сельскую дыру». Именно так она называла его новое место работы, в чем, несомненно, была права. У Федотенко порой даже закрадывалась мысль, что она просто его не любит. «Подруга дней моих суровых» должным образом не оценила те старания, которые ему пришлось предпринять, чтобы избежать мобилизации на фронт. Он хотел как лучше для семьи, а в результате оказался один в изгнании. Казалось, что, если поставить женушку перед выбором: остаться вдовой красноармейца или жить в ауле – она все равно выбрала бы жизнь в городе.
– Тут и без похмелья голова с утра трещать будет, – пожалел себя директор совхоза…
Через четверть часа Федотенко уже приблизился к территории шахты. Колючая проволока высвечивалась серебром на солнце, а от новостроек пилорамы, трех длинных бараков, нескольких подсобных зданий и вышек для охраны несло свежей древесиной.
Многометровой высоты гора желтых опилок своей свежестью несуразно смотрелась на фоне пыльной окружности. Из Оренбурга прикомандировали трех рамщиков и пятерых плотников. На пилораме теперь круглосуточно помимо досок для бараков изготавливали крепежи, опоры и подпорки для тоннелей шахты.
Жители аула подсчитали, что на зоне могли поместиться до пяти сотен людей.
– Оно так и выходит, – прикинул директор, – двенадцать вагонов по сорок немок, плюс охранники и управление.
Неделю назад на зоне появился комендант. Низкорослый и толстый чиновник, чья лысина всегда сверкала как начищенная.
– Интересно, чем он ее полирует? – при виде коменданта шептались аульные злые языки.
За круглыми и толстыми стеклами очков скрывались маленькие, всегда прищуренные глазки Шенкера. Михаил Ильич всегда носил военную форму, хотя не имел звания и был откомандирован на эту должность из Воронежского обкома партии.
Надо отдать должное, организацией охраны и быта будущих заключенных зоны он с первых же дней руководил так хорошо, как будто всю жизнь только этим и занимался. Присланные горные инженеры так же удивлялись, как быстро Шенкер освоился с основными принципами шахтерского дела и активно участвовал в формировании норм добычи угля. К тому же Михаил Ильич смог убедить райисполком в том, что соседний совхоз в состоянии взять шефство над рабочими шахты.
Директору совхоза и коменданту лагеря сегодня предстояло договориться о количестве и сроках поставок мяса для заключенных.
На пункте пропуска Федотенко спешился и привязал коня к одному из столбов ограды.
– Где здесь комендант? – обратился он к охраннику. – Товарищ Шенкер назначил мне встречу…
***
В это время на разъезде любопытство местных жителей, разочарованных отсутствием сенсации, значительно поубавилось и оставшиеся лишь вынужденно и почти безразлично наблюдали за разгрузкой эшелона безрогих пассажиров.
А вот сотни выстроившихся в колонну немок, наоборот, с открытым интересом буквально до мелочей рассматривали толпу собравшихся на них поглазеть казахов. Инородный внешний вид встречающих пугал и забавлял одновременно. Прибывшим могло показаться, что их полукругом огораживает сплошная стена из меховых больших шапок на головах стариков и подростков, женских высоких головных уборов, наподобие накрученных в форме бидона многометровой белой ткани и конусообразных с перьями на макушках колпаков у девушек. Темные, широкие, как будто приплюснутые лица с непривычно узким разрезом глаз были европейкам в диковинку. Уроженцы казахстанской степи, одетые в разношерстные овечьи тулупы, большинство восседающих на спинах лошадей и верблюдов, должны были показаться немкам чуть ли не дикарями, а звуки столь незнакомой им восточной речи напоминали шаманское заклинание духов. Некоторые из женщин в строю колонны уже осеняли свои лица крестным знамением, вероятно, невольно рисуя в голове сцены ворожбы местных колдунов, приносящих одну из них в жертву своим богам.
Как немки ни старались прислушаться и понять, но казахский язык казался им набором случайных и бессмысленных звуков.
– Абракадабра! – прокричала в сторону зевак одна из женщин в мужском бушлате, держа на руках закутанного в байковое одеяльце младенца.
Будто в ответ двое казахских старушек через головы оцепления стали кидать в колонну маленькие серые камушки. Немки старались уклониться от болезненных ударов, как им показалось светлой гальки железнодорожного полотна, а матери инстинктивно прикрывали своим телом детей.
В этот момент неожиданно в сторону местных зевак в темпе направился один из солдат-проводников. Напуганные его приближением обе пожилые шкодницы быстро скрылись за спинами своих односельчан.
– Есть тут врач? – крикнул солдат на ходу. – В вагоне женщина рожает.
– Ойбай! – раздалось в очередной раз над степью…
Беременную на носилках принесли в медпункт, расположившийся в несуразной маленькой деревянной пристройке. Амбулатория, видимо, изначально тут и не планировалась. Спартанским было и ее убранство: у окна ютился покрытый белой простыней столик, рядом с ним деревянная табуретка, возле задней стенки расположилась кушетка, а у печи, выложенной из красного кирпича стояла ширма. Всем было известно, что за ней жила работница амбулатории.
Фельдшеру, Марии Кузьминичне, уже не раз доводилось принимать роды. Прогнав из комнаты зевак, она уверенно оказывала необходимую помощь лежащей на кушетке в схватках женщине лет тридцати.
В этот раз тоже все обошлось. Запеленав новорожденного в кусок белой простыни, акушерка передала ребенка матери.
– Поздравляю! – садясь за стол, облегченно произнесла Мария Кузьминична. – У вас родился сын. Остатки простыни можете забрать с собой, разрежьте на сменные пеленки.
– Спасибо вам! – с кушетки раздался слабый голос.
– Будем оформлять, – фельдшер открыла лежащий на столе журнал, – ваше имя, фамилия и дата рождения?
– Амалия Лейс, 19 сентября 1910 года.
– Отец ребенка?
– Давид Шмидт, 1919 года рождения.
– Число и месяц?
– Не знаю, – призналась Амалия.
Фельдшер с удивлением посмотрела на немку, но ничего не сказала по этому поводу. А Амалия с ужасом для себя призналась, что она практически ничего не знала о жизни своего Давида. Даже день его рождения. Он ведь никогда его не праздновал. Жизнь и работа в коллективе совхоза была подчинена лишь одной идее – строительству светлого будущего. При этом абсолютно не хватало времени на что-то личное, тех же разговоров и воспоминаний о прошлом и предках.
– А почему у вас разные фамилии?
– Мы не успели расписаться. Его забрали на фронт.
– Ну, тогда вообще тут не о чем говорить. Без документа бракосочетания или личного согласия мужчины я не могу записать его как отца.
Амалия склонила голову над ребенком и тяжело вздохнула, она совсем забыла о письме Давида, в котором он так радовался скорому рождению их совместного ребенка. Женщина не нашла в себе сил, чтобы возразить. Депортация из Поволжья – когда у нее отобрали все документы, почти двухмесячная дорога в телячьем вагоне, нередко без воды и хлеба, плюс еще беременность – кажется навсегда отбили у нее желание возмущаться.
– Мой муж на фронте, пропал без вести, – все же тихо промолвила она.
– Поставим прочерк, – тяжело вздохнув постановила фельдшер, – как сына назовешь-то?
– Николаус, – у Амалии был готов ответ.
– Что за имя такое? – оторвала свой взгляд от журнала фельдшер.
– Немецкое. В честь его дедушки.
Другие электронные книги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Другие аудиокниги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Чужбина




 0
0