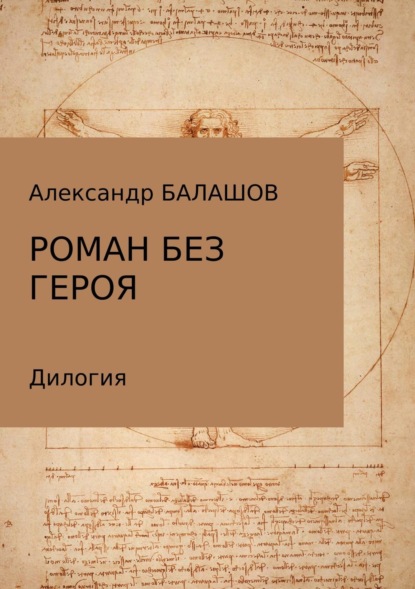По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И он пнул его в лицо десантным немецким сапогом с широкими голенищами, за которые немцы закладывали запасные магазины для автоматов.
От страха и надежды он потерял дар речи. Из сдавленного, израненного сукой Варой горла вырвался лишь булькающий хрип.
Маркел еще поддал носком сапога.
– Хочешь, сучара, жить али нет?
Он хотел сказать: «да, да, хочу, очень хочу; ничего больше не хочу, как только – жить!», но вместо человеческих слов опять вырвался какой-то сип – будто из резинового баллона воздух спустили.
– Молчишь? – угрожающе спросил Шнурок. И позвал собаку:
– Вара!..
Черный пёс в три прыжка оказался у ног хозяина.
Выпучив от страха глаза, Григорий поднялся на четвереньки. Ноги и руки его дрожали, разбитое лицо заливала кровь… Он поспешно утвердительно закивал головой. Раз кивнул, другой, третий… Кровь виноградными гроздьями летела на сапоги карателя, и собака жадно слизывала их фиолетовым языком.
– Хер Дитер! Хер Ганс! Глядите-ка – пферд! Комиссар-лошадь!.. Ха-ха-ха…
Немцы, наблюдавшие эту картину, брезгливо засмеялись.
– Он, господа, так жить хочет, что от радости в зобу дыханье сперло!.. – веселился Маркел, буквально перегибаясь от смеха. – Обассался даже… И того, кажись… Воняет от комиссара. – Он раздул волосатые ноздри. – Кажись, марксизмом. Ха-ха…
Немцы ничего не поняли. И на этот раз даже не улыбнулись. Вара зевнула, уверенная в счастливом для нее финале, и отошла на шаг от своей добычи. Но желто-красных глаз с Григория не спускала.
– Зачем он вам нужен, господа… такой? Отдать его Варе на казнь – вот и вся недолга.
Дитер что-то тихо сказал Шнурову. И оба немца вошли в темный дом Захаровых. Через минуту там зажглась керосиновая лампа, послышались причитания старухи. Потом распахнулась дверь, и смеющиеся немцы вытолкнули автоматами на порог слободского великана – деда Пармена. Старик, всю жизнь проработавший в слободской кузнице, и к своим восьмидесяти годам не утратил здоровья и стати. Был он бос, в нательной рубахе и белых кальсонах с развязанными внизу длинными тесемками.
– А ну, немчура, осади! Не напирай сзади!.. – повел могучим плечом Пармен. – Ты пукалкой своей меня не пужай, не пужай, солдатик! Я свое уже отбоялся… Теперь твой черед.
– Тафай, тафай!..
Пармен ступил на снег, увидел младшего Карагодина, залитого кровью, и всплеснул руками:
– Гришенька!.. Что же эти ироды с тобой сделали?
Григорий Петрович всё это время стоял на четвереньках и машинально продолжал кивать головой. Теперь кивки получались мелкими, безжизненными… И никто уже не смеялся на «комиссара-лошадь».
– Дай я тебе, родной, помогу… – сжалился Пармен, подхватывая под мышки Григория Петровича. Немцы не вмешивались в семейную идиллию.
– Тафай, тафай! – добродушно улыбались они Пармену и вышедшей на крыльцо Параше. -Бабка, шнапс, сало, яйки!… Ха-ха…
– Праздник ведь у Захаровых. – осклабился Шнурок. – Внучок приемный в гости пожаловал! Накрывай, бабка, стол.
Прасковья потеряно прижалась к ледяному косяку двери, бросая быстрые вопросительные взгляды то на Григория, то на деда.
Пармен нахмурил косматые брови, сверкнул колючим взглядом.
– А твое место, Маркелушка, на варке[67 - Варок – скотный двор]… Ступай, гостёк дорогой, туда, тама давно свиньи ждут!
При слове «свиньи» немцы оживились. Закричали:
– Тафай, тафай в дом, русские швиньи! Шнапс, сало!
Дед, помогая Григорию Петровичу подняться на ступени крыльца, бодро (Григорию показалось, что даже весело) подмигнул Карагодину:
– Ты, Гриш, так не трясися… Самое страшное, что эти выблядки могут с нами сделать – это убить… А иде лутше щас: «там» али тута – нихто не знаить. Но вить и они сдохнуть… «Там» и свидимся, с дорогими моими гостями. На Страшном суде… Вот тама и расчет с них возьмут. Ничаво не забудется.
– Р-разговорчики в строю! – крикнул Шнурок и трижды опоясал Пармена сыромятным ремнем арапника. – На свои поминки, сволочи, идете, так помолились бы.
Пармен и ухом не повел на поглаживание плеткой. Но кровь, выступившая через рассеченную кожу, выкрасила спину.
– Так то, Маркел, моя поминальная молитва и есть… Страшной силы молитва.
– Заткнись, пень, коль до рассвета хочешь дожить…
– До рассвета – хорошо бы, – неопределенно ответил дед, поглядывая на черный горизонт.
Бабка растрепанной курицей хлопотала у протопленной с вечера печи.
На стол Параша уже успела выставить чугунок с вареной картошкой, миску квашеной капусты, соленые огурцы, большую бутылку мутного буракового самогона. В чистой пеньковой ширинке[68 - Ширинка – здесь: полотенце] лежал желтоватый шматок сала.
– А где праздничная посуда, бабушка? – спросил Шнурок, потирая руки.
Прасковья молча поставила на стол стаканы и расписные кружки.
– Да ты никак на всю семью чарок выставила, – принуждая Вару сесть в красном углу, под иконой, усмехнулся Маркел. – Нехай им там, в лесу, икнется. Потом вас помянут, партизанских родитилев…
Немцы, не понимая треп полицая, не присаживаясь к столу, по-походному налили себе в стаканы, сказали коротенькое «хох» – и выпили. Стали жадно закусывать. Шнурок потянулся было за бутылкой, но Дитер его остановил:
– Генук! Фатит… Тафай бензин!
– Яволь, хер Дитер! – козырнул Шнурок и выскочил во двор к мотоциклу. Пёс проводил его преданным взглядом.
Через пять минут полицай вернулся с канистрой. В теплой хате густо завоняло бензином.
Шнурок, не глядя на немцев, подошел к столу и махнул стакан без закуски. Крякнул. Потом протянул канистру Григорию Петровичу.
– Ежели жить хочешь, то покропи, Гиша, дедушку и бабушку бензинчиком. Как святой водицей.
Немцы, напряженно жуя жесткое сало, дружно закивали головами.
Карагодин стоял, опустив голову, шумно дышал. Кровь уже запеклась, больше не капала на пол… Но шею он повернуть не мог – острая боль пронзала порванные собакой мышцы.
– Не хочешь? – спросил Шнурок. – Жить, значит, не хочешь…
Карагодин напряженно смотрел в некрашеные доски пола..