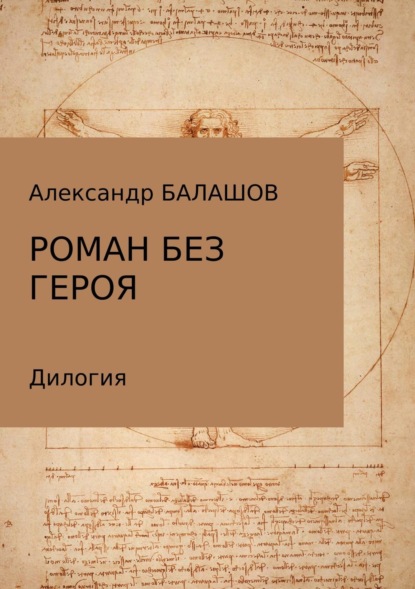По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Cталь холодно блеснула в лунном свете, и штык скрылся в потайном кармане полушубка.
Со стороны околицы послышался треск мотоцикла, замелькал бледный свет фары.
– Тихо, сынок. Кажись, немцы.
Петр Ефимович плохо слушающейся рукой достал наган, сжал его заплясавшими уже в жестокой судороге пальцами. Он хотел было подбодрить испугавшегося сына, с ужасом смотревшего то на отца, уже скорченного, скрюченного припадком падучей, то на неумолимо приближающейся свет фары немецкого мотоцикла. Свет уже зыбился[61 - Здесь: качался.] уже за взгорком, потом озарил весь изволок[62 - Пригорок с длинным подъемом.].
Григорий услышал, как отец взвел курок. Бабахнет сдуру – и тогда и глубокий снег не спасет. Отыщут и убьют.
Гришка, содрав каляные[63 - Здесь: несгибаемые от холода.] рукавицы, ухватился за отцовский наган, пытаясь вырвать оружие. Но отец, протяжно постанывая, не выпускал холодную вороную сталь из железных пальцев.
Фары остановившегося у овина мотоцикла еще какое-то время вызолачивали[64 - Здесь: высвечивали купол церкви, покрытый сусальным золотом.] купол слободской церкви. Стих мотор. Послышались голоса. Зарычала собака. Загорелись, забегали по стенам дома, овина и риги, по искрящемуся снегу желтоватые пятна немецких электрических фонариков, горохом посыпались отрывистые лающие приказы. Потом вязкий голос сказал по-русски:
– Вара! Вылазь из коляски, сучье твоё отродье!.. Приехали до бандитской хаты. За работу, лентяйка.
Из коляски на снег уж очень мягко для своих огромных размеров выпрыгнула черная немецкая овчарка. Гришка даже разглядел коричневые подпалины на свалявшейся шерсти. Показалось, что глаза овчарки светятся. Страшным огнево-алым светом. Пёс послушно сел между двумя немцами и хозяином. Теперь Григорий узнал Маркела Шнурова. На рукаве Шнурка белела повязка полицейского. Собака, взвизгнув, зевнула.
–
Ist Das schone Hund, Diter!
[65 - Это прекрасная собака, Дитер! (нем)]
–
Iha
,
iha
,
Hanz
.
Взошла луна. И все залила бледным светом. Григорий вжался в снег, но не мог оторвать взгляда от троицы. Солдаты были в пятнистых теплых комбинезонах, надетых поверх полевой формы. На головах – каски с поднятыми на них мотоциклетными очками. На груди висели автоматы. Гришка, парализованный страхом, даже разглядел заткнутые за ремни гранаты на длинных деревянных ручках и подсумки с запасными магазинами для автоматов.
Немцы весело переговаривались. К Шнурку обращались тоже по-немецки. Тот нараспев отвечал им, сдабривая свою речь русским матом. Но, по всему, троица прекрасно понимала друг друга. Судя по настроению, все трое уже хлебнули шнапса – ночная война с хижинами была им не в тягость.
Вот Шнурок попросил у немцев сигарету. Те, оживленно болтая между собой, бросили полицаю целую пачку. Русский щелчком вышиб сигарету, долго щелкал бензиновой зажигалкой, сверкая искрами, летящими из-под кремня. Наконец фитиль загорелся, осветив лицо проводника овчарки. Сомнения отпали – это был Шнурок со своей собакой-людоедом. Партизаны рассказывали, что пес пьянел от человеческой крови. И не брезговал свежей человечиной, обгладывая трупы до пугающей белизны.
Гришка боялся пошевелиться. Но больше всего переживал за отца, которого так некстати припутал прямо в снегу черный приступ.
«Лишь бы ветер не поменялся…» – подумал Григорий.
Ночной ветерок дул со стороны неожиданной троицы.
Долговязый немец окликнул Шнурка и повел дулом автомата в сторону окон дома Захаровых. За стеклом окна явственно различался двигавшейся вместе с кем-то по хате огонек лампы или свечи.
– Яволь, господин Дитер! – козырнул под рваный треух Шнурок и позвал собаку: – Вара!..
Сука вдруг задрала морду в звездное и лунное небо и тихо завыла, закрыв, будто от блаженства, свои желто-красные глаза.
Уже ставший отходить после жестокого приступа Петр Ефимович вдруг вытянул губы и, не открывая глаз, в унисон собаке тоже завыл.
– Was ist los?!. – вдруг встрепенулся Дитер, не понимая, что происходит и откуда исходит этот странный звук.
Гришка, холодея сердцем, зажал рукой слюнявый рот воющего в ночи отца.
– У-у-у… – уходил в руку, в землю и черное небо этот предсмертный вой отца.
– У-у-у… – вторил ему черный пес.
– Молчи, молчи!.. Замолчи же! – все сильнее зажимал воющий рот Григорий. – Замолчи!..
Тело Петра Ефимовича безжизненно обмякло.
К яруге, где скрывались отец и сын Карагодины, уже с автоматами наперевес по снежной целине бежали немцы. Но их опередила Вара. Позади нее, сжимая в руке сыромятный арапник[66 - Арапник – охотничий кнут для собак], приближался Шнурок.
Вара неслась к Григорию молча, оскалив клыкастую пасть. В мертвом свете полной луны комиссар хорошо видел, как медленно, неестественно медленно, будто тут же застывая на морозе, падала на девственно белый снег пенная слюна с оскаленных клыков.
Он вспомнил о штыке, который передал ему отец, но не сделал даже попытки, чтобы достать оружие – страх сковал все его члены. Григорий, не мигая, смотрел в страшные холодные глаза огромного пса, который, вздымая снежную пыль, как огненные искры, несся на него с одной целью – убить.
Но эта мысль уже не пугала Григория. Казалось, что он свыкся с нею за минуты, прошедшие после того, как он своими руками задушил воющего отца. Теперь он хотел только одного: конца этого ночного кошмара.
Вара налетела на него черным упругим комом. Как ангел смерти… Зубы её впились в шею Григория. Снег окрасился бурой кровью… Пес отпустил Григория и накинулся уже на мертвого Петра Ефимовича. Схватил труп за шею и потащил к хозяину, как охотничьи собаки приносят подстреленную дичь.
Григорий хотел закричать… Но вместо крика на волю вырвался долгий истошный хрип. Даже не хрип – леденящий душу хриплый вой обреченного на страшную смерть человека.
Он услышал, как что-то кричали немцы. Потом Шнурок ударил по окровавленной собачьей морде арапником, и пес нехотя отошел от добычи. Не позволили овчарке растерзать и живого Григория Петровича.
– Благодари господина Дитера! – нагнулся к залитому кровью лицу Григория Петровича Шнурок. – Ты им зачем-то живым еще нужен… Сожрать тебя Вара всегда успеет… Поживи пока, товарищ комиссар. Помучайся от своего страха…
Маркел подошел к немцам, стоящим в трех метрах от поверженного в красный снег Григория. Жестикулируя, полицай что-то рассказывал своим благодетелям. Дитер и Ганс, положив ручища на висящие на животах автоматы, захохотали, закивали головами.
Григорий, зажав рану на шее рукой, не спускал глаз со Шнурка и его собаки. Вара дисциплинированно сидела у ног хозяина, изредка поглядывая на шевелившегося Карагодина.
От созвездия Малого Пса оторвалась бледная звездочка и исчезла на ночном небосклоне. Луна равнодушно светила в глаза Григория. Он часто-часто заморгал, глядя на небо, которое видел в последний раз, – и плакал. Как малое дитя заплакал – навзрыд, роняя в снег горячие слезы.
Он, молодой, не поживший, не порадовавшийся вдоволь на этой грешной земле вот сейчас, через какие-то считанные минуты уйдет в черное небытие. В страшную ледяную и беспросветную бездну, полную мук и страданий нечеловеческих… И вырвавшийся из его груди страх, заполонивший всю его сущность, заканчивая ногтями на ногах и руках, сперва родил такую жалость к самому себе, такое сострадание к несправедливой судьбе, будто на красном подтаявшем от страха, горячей мочи человеческой снегу лежал не он, Григорий Карагодин, а какой-то другой, очень знакомый, дорогой ему человек… Но – другой. И ему впервые было по-человечески жалко другого человека…
Подошел Шнурок. Он боялся посмотреть ему в глаза. Боялся увидеть над собой окровавленную пёсью морду с желтыми клыками, с которых капала бешеная пена. Он узнал его по сапогам – коротким немецким сапогам, в которых ходили все каратели, расквартированные в живописном большом селе Хлынино. Совсем рядышком от родной Слободы…
Он смотрел на эти сапоги, от которых, как ему показалось, зависит весь исход этой кровавой ночи. И он, забыв о ране на шее, которая, слава высшим силам, оказалась не смертельной (артерию собачьи зубы не задели), пополз к этим заснеженным сапогам с широкими голенищами. Он полз, роняя на снег свою кровь, роняя слезы жалости и мольбы… Он уже готов был поцеловать эту грубо выделанную кожу сапог солдат дивизии «Райх»… Только бы жить… Только бы жить… Любой ценой. Потому что у жизни вообще нет цены. Она бесценна. И что стоит это невинное унижение, билась эта мыслишка в жиле на виске, перед величайшим благом – жизнью!.. Да ради нее, ради того, чтобы жить, любить девок, радоваться терпкому вину, духмяным яблокам в саду, наслаждаться всем тем, что он едва-едва успел познать за свои неполные двадцать три года, не только расцелуешь эти грязные сапоги…
– Жить, комиссарик, хочешь? – услышал он над собой насмешливый голос Шнурка.