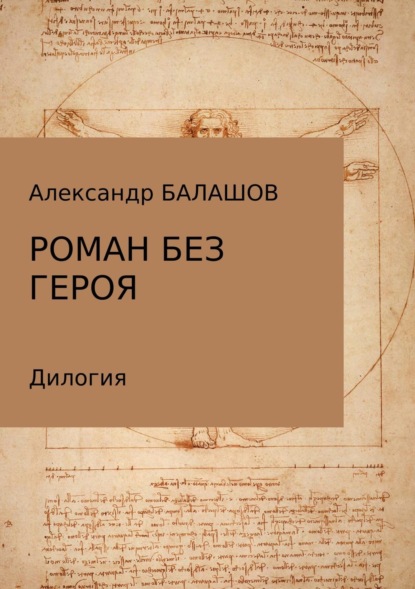По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем, комиссар? – спросил Вениамин Павлович. – Мы бы его трибуналом судили… Выведали, дее их «Белый медведь» ишшо наши хаты надумал спалить…
Григория повесил автомат на плечо, тяжело дыша, сказал, умываясь снегом:
– Они отца моего придушили… Пармена с Парашей живьем сожгли… Шнурок меня в сарай избитого кинул и поджег. Если бы не вы, мои боевые товарищи, если бы не вы!… – он всхлипнул и растер по лицу слезы вместе с сажей. – Мне теперь еще одного свидетеля нужно добыть… Точнее двух! Маркела Шнурка и его овчарку.
– Свидетелей? – переспросил партизанский доктор. – Да они не свидетели, а самые что ни на есть преступники… Прихвостни фашистские. Но Шнурова нужно брать только живым. Шумилов, Разуваев, Захаров! Хоть из-под земли, но достаньте Маркела!
– Соседка Захаровых, бабка Нюша, – доложил Коля Разуваев, – говорит, что мужик с собакой к Черному омуту побегли…
Григорий перевесил автомат на шею, сказал, глядя исподлобья на Клима:
– Не нужно мне никакой помощи… Маркел – мой. У меня и покойного бати с ним и его псом теперь свои счеты… До конца жизни. Его или моей – не важно…
– Мы подсобим, товарищ комиссар! – держась за нывшую руку, сказал Клим. – У меня к нему тоже счет свой есть… Пущай расплачивается.
Карагодин упрямо тряхнул головой.
– Ты еще за свое преступление, гражданин Захаров, расплатиться должен… Обвинение в умышленном нарушении приказа командира отряда с тебя не снято. К тому же ты сбежал из-под трибунала…
– Так он не сбежал, Григорий Петрович, – заступился за Клима Фока Лукич. – Вы только отправились на слободской посад, как он и вернулся. К тому же, это он организовал партизан вам на подмогу. Так спешил, что я ему даже рану не успел толком обработать…
– Успеем, успеем обработать по всем правилам, – странно улыбнулся Карагодин. – Ты, доктор, не беспокойся. Это тебе я, берущий на себя командование отрядом «Мститель», говорю. Похороните отца. Пока неприметно, в захаровском огороде, чтобы немцы не изгадили могилку. После войны улицу в честь него назовем, памятник поставим герою.
Он поискал глазами потерянную шапку, не нашел и снял кубанку с алой ленточкой с головы Кольки Разуваева.
– Я за Шнурком! По его душу! А Захарова, Ты, Шумилов, и ты, Разуваев, возьмите под стражу! Своими головами за предателя отвечаете…
– Да какой он пред… – сказал Разуваев, но Карагодин перебил:
– А что с его братом, с Федором?
– Тот не убежит!.. – засмеялся Колька. – К дереву его притянули крепко-накрепко. Морским узлом. Не развяжется.
Клим, вытирая испарину со лба (от раны теперь горела не только рука, но и всё тело), бросил:
– Он же замерзнет на морозе.. В путах-то…
– Ничего-ничего, – отмахнулся Бульба. – Три притопа, два прихлопа – вот и вся недолга, чтобы не околеть… Да и морозец нынче не хваткий.
У пожарища было светло, как днем. Потихоньку к дому стали стекаться посадкий люд – старики, дети, подростки. Догоравший дом никто не тушил. Заворожено смотрели на огонь, будто к костру пришли погреться. С любопытством разглядывали убитых немцев и их мотоцикл, который только что подожгли партизаны.
– Как отца закопаете, так уходите на базу! – приказал новоявленный командир «Мстителя». – Я со Шнурком и его псом рассчитаюсь – и сам вернусь в лес. Боевое охранение у большого дуба усилить пятью, нет – шестью бойцами! Это приказ!
И с этими словами он скрылся в глубине яруги, пройдя мимо трупа отца, лежащего на спине с открытыми глазами и перекошенным предсмертным припадком лицом. Глаза его побелели и выкатились из орбит. Теперь они смотрели в упор на сына. Григорий вздрогнул.
Снова пошел снег – крупный, сухой и колючий. Звезды гасли одна за другой. И уже было не разобрать, где там, высоко-высоко, прячутся те загадочные созвездия, куда отлетает с земли живая человеческая память.
Глава 38
ЧУНЬКИ[72 - Чуньки – пеньковые, веревочные лапти.] БРАТА ФЕДОРА
Из «Записок мёртвого пса»
Первые часы своего лесного плена он пытался освободиться от пут, чтобы не замерзнуть здесь, у старой сосны. Он дергался, ужом извивался – всё напрасно. Крепко дружки прикрутили к смолистому стволу, мертво.
Решил ждать. Ведь не бросят же его здесь на съедение волкам или морозу. Придут. Освободят его, Федора Захарова. Да и какое он преступление совершил? Ну, крикнул брату, чтобы бежал. Так родная кровь, жалко… Расстреляют сдуру, потом дела не поправишь… Это не гвозди на доске прямить загнутые. С жизнью человека шутковать опасно.
Чтобы хоть чем-то занять свой мозг, Федор стал вспоминать. Вроде и прожито уже немало, а вспоминались какие-то «мелочи» – рыбалка с Климкой на их речке, утренняя зорька над заливным логом, мать идет с подойником доить коров… Даже запах парного молока вспомнился. И тот праздничный дух, который стоял в хате, когда мать пекла свои удивительные пирожки– «жаворонки» к празднику. Наверное, счастливые запахи жизни вспоминались.
…Федор Захаров, родной Климкин брат, в отрочестве мечтал уйти в Ольговский мужской монастырь. После революции саму монастырскую обитель не тронули (в лесной глухомани монастырь прятался), но странствующих монахов вдруг не стало. Не видели их ни в Слободе, ни в Зорино, ни в Хлынино… Пустили слух, что на Соловки какие-то перевели весь монастырь с настоятелем. Там, мол, им лучше.
В 1924 году монастырь закрыли официально – по специальному указу властей. Но хозяйство было хоть и брошенным, да не порушенным. В святой обители хозяйственные и беспокойные люди открыли колонию для беспризорников.
Нашли денег на колонию для малолеток. С кадрами воспитателей было потяжелей. Но решили: не боги горшки обжигают. Обжигать горшки стали бывшие красноармейцы и энкэвэдешники. Понабрали штат, привезли ребят всех возрастов, собранных по курским, воронежским и орловским дорогам. Умные люди из проверочных комиссий, которые зачастили в колонию, понимали: воспитатели и учителя получались некудышние. Никакие самые светлые педагогические теории доброго дедушки Макаренко не могли из прирожденных вертухаев сделать из босяков и бродяжек духовных наставников молодежи. Работники колонии, мужчины и женщины, по привычке воспитывали строителей светлого будущего пинками, подзатыльниками, морили голодом и холодом в карцере колонии за любую провинность, а чаще и без провинностей – как они сами говорили, «для профилактики». Профилактике здесь уделялось первостепенное внимание.
За вертухаями далеко ходить было не надо. Вербовали их из местного слободского люда, так как Красная Слобода и окрестные села находились недалеко от бывшей монастырской обители.
Начальник районного отдела НКВД Семен Котов лично отбирал подходящие для воспитателей кандидатуры. Отдел кадров колонии возглавлял молодой хлынинский мужик Маркел Шнуров, особо отличившийся перед властью при конвоировании раскулаченных семей в малозаселенные районы Сибири и Дальнего Востока.
Не вязалась с партийным доверием одна биографическая заковыка. Оказывается, в Зорино, где жили престарелые родители Маркела, первыми раскулачили как раз их – Шнуровых. Но тут Маркел не подкачал. Сын за отца не в ответе. Всю ночь писал химиечским карандашом письмо в газетку, извел весь керосин в лампе. Но зато вышло то, что надо. Через три дня в местной печати появилась шнуровская заметка с броским заголовком «Кулаки мне не родители». Котов был очень доволен вот этими принципиальными строками своего визави: «Я осуждаю своих родителей и братьев как заклятых врагов народа и отрекаюсь от них навеки!». «Дело воспитания подрастающего поколения» ему доверили с легкой душой.
Маркел Шнуров был действительно очень принципиален. Особенно к нарушителям установленного порядка. Разные придумки и издевательства над детьми тешили его душу, успокаивали нервы, приносили хоть какое-то удовлетворение от проделанной работы. Самым излюбленным его наказанием «подрастающего поколения» была «русская печка». Точнее – плита. На кухне, где дневал и ночевал ненасытный Маркел ( малолетние преступники поговаривали, что в брюхе у него сидит прожорливый цепень – огромный глист, который сосал Маркела изнутри, требуя новой и новой пищи для себя), он ставил на раскаленную плиту ребенка босым и весело прихлопывал: «Танцуй барыню!».
Федор Захаров, потомственный плотник, к крестьянскому берегу так и не прибился. Все искал, искал себя. Когда потерял – ему одному было и известно.
При НЭПе неожиданно для всех стал он шибаем[73 - Шибай – мелкий торговец, скупщик]. А когда новая экономическая политика приказала долго жить, Федор добрел в своем поиске до ворот детской колонии. Несмотря на плохую анкету, взяли младшим воспитателем.
Федор при всем своем адском терпении выдержал с полгода. Как-то, когда вернулся в отчий дом, показал Климу шрам под левой лопаткой.
– Маркелова отметина, – сказал он. – Застал его за его любимыми танцами на печке… Не удержался, врезал по морде. Снял орущего пацаненка с плиты, повернулся к двери – тут он меня под лопатку и саданул…
– А потом? – спросил Клим.
– А что потом? Потом меня выгнали с работы. Вот и все.
В партизаны Захаровы ушли всей семьей. Дома, на хозйстве, оставили престарелых Пармена и больную Парашу. Кому ветхозаветные старики нужны? У кого рука на таких поднимется?ъ
Зимней обувки на всех не хватило. В партизанском отряде Федор уже с октября ходил в чуньках. У всех были сапоги или валенки. А бедный Федор, одетый в старый чекмень[74 - Чекмень – мужская одежда вроде полукафтана], на валенки за свою скитальческую жизнь так и не заработал.
Когда Тарас Шумилов у горящего захаровского дома говорил Климу, что, мол, ничего с твоим братом не случится – морозец-то «так себе», не хваткий, Клим вздохнул:
– Чуньки у него на ногах… Или не видали, когда привязывали?
– Видали! – ответил Тарас. – Так он, верно, трое портянок под пеньку намотал – чего ж ему будет?
… Федора принесли на руках – идти на отмороженных ногах он не мог. Лукич сделал всё, что мог в полевых условиях своего партизанского госпиталя. Но гангрена уже делал свое черное дело. Антонов огонь охватил сразу двух братьев Захаровых.
На другой день после возвращения из Слободы партизанский доктор сделал сразу две ампутации: ножовкой, которую перед операцией, как мог, стерилизовал в перваке, отпилил Федору ступни. А Климу – правую руку. Наркоз обоим, как мог, заменял тоже самогон. Удивительный русский напиток, о котором народ, наверное, не зря легенды складывает.