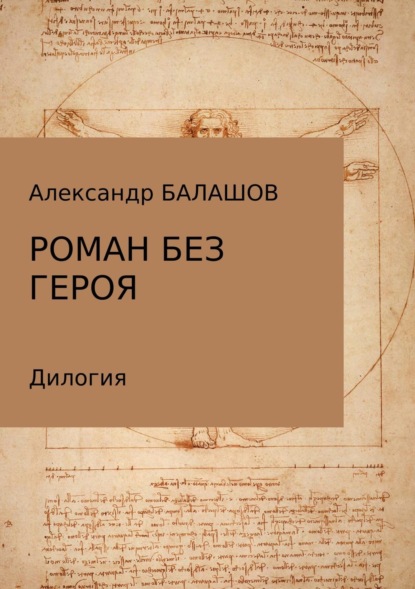По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не хочешь жить, расстреляем первого… И потом сожжем со стариками в их хате, – равнодушно сказал Шнурок, наливая себе еще стакан. Полицай в подтверждение своих слов достал из кармана немецкий «Вальтер» и снял пистолет с предохранителя. От металлического щелчка Григорий вздрогнул, потянулся к канистре.
– Вот так, дорогой внучок… – похвалил его Шнурок. – Помажь елеем головы бабушки и дедушки, помажь. Они заслужили получить именно от тебя такую милость.
– Григорий открыл канистру, плеснул бензина на застывшие ноги Пармена и Прасковьи.
– Да елея не жалей, не жалей – мучаться меньше будут, – поучал Шнурок.
Григорий приподнял канистру, но достать до головы высокого Пармена не смог – облил ему бензином плечи, потом обильно полил обездвиженную от страха старуху. Параша, не мигая смотрела непонимающими голубыми глазами на Григория, которого любила не меньше родных внуков, и шептала, как молитву: «Господь с тобой, Гришенька… Господь с тобой…».
– Тафай! – подтолкнул автоматом Григория Дитер. – Шнель, шнель!
Они вышли на крыльцо.
За ним поспешили Ганс и Маркел, потом выскочила Вара, фыркая от бензинового духа. Шнурок, засунув самогон в карман короткого черного пальто, поливал из канистры крыльцо тонкой бензиновой струйкой.
– На крыльчко, на ступеньки… Как-кап-кап… – нелепой песенкой звучал его слова.
Наконец, Шнурок отшвырнул к мотоциклу пустую канистру. Достал из коляски масляную ветошь, намотал ее на палку и поджег зажигалкой.
– Комиссар! – подошел он к Григорию Петровичу. – Ну-ка, зажги своим коммунистическим огнем партизанские сердца!.. Как вы там любите говорить? Из искры да возгорится пламень!
Карагодин сделал шаг к яруге. Шнурок достал пистолет и дослал патрон в ствол.
– Ну, поджигай!
Гришка, зажмурившись, взял факел, сделал пару шагов к крыльцу и бросил горящую ветошь на ступеньки. Голубоватый нежаркий огонь побежал по бензиновому ручейку в сени, потом в хату…
За окном было видно, как тут же запылала горница, как заметался по ней загоревшийся дед Пармен. В окно, со звоном вынося стекла, полетела табуретка…
Григорий видел, как пару раз еще мелькнуло обезумевшее от боли и страха лицо огненной Параши, как пылавшим бревном катался по горящей хате дед Пармен.
В вдруг: – У-у-у…
Долгий, нестерпимо долгий вой черного пса…
Очнулся он оттого, что Шнурок врезал ему по скуле.
– Ишь ты! – цыкнул он слюной через щербатые зубы. – В обмороки падаем, словно райкомовские барышни… Пшел в сарай, курва!
И он больно подтолкнул Григорий дулом пистолета в спину. Пошатываясь, как слепой, вытянув вперед трясущиеся обожженные руки, он толкнул массивную дверь овина.
Шнурок, подмигнув Дитеру, припер дверь тяжелым бревнышком, не поленился сходить к омету[69 - Омет – сложенная в кучу солома], притащил огромную кучу соломы и, прикурив сигаретку, бросил спичку в середину охапки.
– Собаке собачья смерть… – подмигнул он солдатам, подглядывая за палачом и жертвой в щель сарая.
И он сапогом подгорнул занявшийся стожок поближе к дощатой стене трухлявого овина. Немцы, брезгливо оттопырив губы, молча наблюдали за экзекуцией.
Собака сидела у ног Шнурка, глядя на занимавшуюся огнем дверь сарая. Потом, когда стало припекать, отбежала в сторону, сев поодаль. Пёс ждал заслуженной награды.
Глава 37
АТАКА АРХАРОВЦЕВ[70 - Здесь: босяки, озорники предместья.]
Литературная реконструкция Иосифа Захарова
На этот раз собачий нюх подвел венного пса. Среди двух огней, дыма, столбом поднимавшегося с захаровского двора, собака проглядела смертельную опасность.
Немцы вдруг разом присели, обернувшись на изволок. С бугра, как гром средь зимнего неба, ударили автоматные очереди, и около двух десятков партизан с раскатистым криком «ура» скатились на тощих задницах по крутому склону яруги.
Дитер , паникуя, побежал к мотоциклу, попытался завести хваленый «БМВ», но техника не слушалась суетливых и неверных рывков ефрейтора. Ганс грубо оттолкнул товарища, занял водительское место, но тут же, получив пулю в голову, затих, не выпуская из рук руль.
Второй немец, бросив в снег автомат, поспешно поднял руки вверх.
Две дюжины небритых, пахнувших костром архаровцев медленно окружали мотоцикл и смертельно перепуганного неожиданной атакой немца.
– Ребяты, второй капут! – послышался голос Тараса Шумилова.
– А где третий?
– А был и третий?
– Ну, тот… Из люльки. С собакой.
– Свищи теперь в поле…
Фока Лукич оказался неплохим командиром. Люди ему верили. Но главное – слушались. Хотя это одно и то же.
– Доктор! – обернулся к Альтшуллеру Клим. – Товарищ временный командир! Вы ведь по-немецки шпрехеете… Спросите у гада: сколько их было?
Фока Лукич перевел вопрос.
Немец обернулся к уже пылавшему сараю. Что-то затарахтел на своем птичьем языке.
– Он говорит, переводил доктор, – что был еще один русский полицай. Это он и проводил экзекуцию: поджег дом со стариками и подпалил сарай, куда бросил избитого партизанского комиссара… А его пес задушил командира партизанского отряда. Труп того старика – в овраге.
Бросились к припертой бревном двери. Из дыма, согнувшись в три погибели, пошатываясь вышел черный от сажи и копоти пожарища Григорий Петрович.
– Где Шнурок и черный пес? – первым делом спросил комиссара, смахивая слезы с обгоревших ресниц.
– Нету, – развел руками Тарас. – Видать, убегли оба… У мотоциклетки только два немца. Один убитый. Другой живой еще.
– Живой? – вздрогнул Гришка. – Доктор допрашивал?
– Успеется… – пожал плечами разведчик. – С собой на базу возьмем. Эх, и мотоцикл хорош! Да бензину в баке ни капли..
Карагодин не дослушал трандевшего[71 - Трандеть (курск. диалектное слово) – болтать; транда – болтун, говорун.] Тараса, бросился к немцу, понуро стоявшему в окружении Водяры, Кольки Разуваева и Клима Захарова. На ходу он подобрал так и валявшийся в снегу немецкий автомат, передернул затвор и от живота, по-фашистски, в упор расстрелял пленного.
Партизаны только инстинктивно пригнули головы.