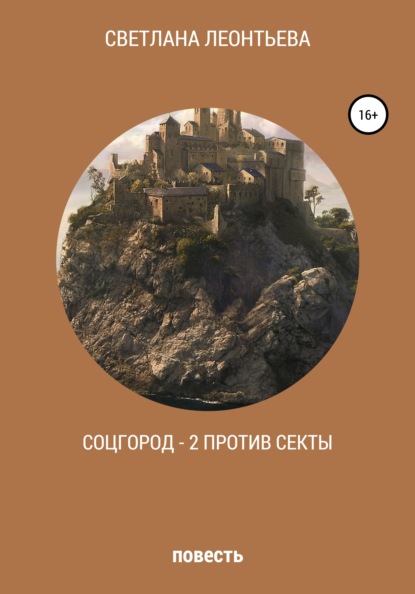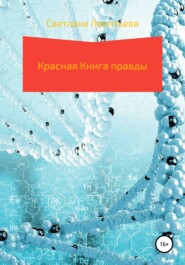По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Соцгород – 2 против секты
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всю ночь Зайцу снилась Наталья Юрьевна, облачённая в белый капюшон, сквозь сон золотились маковки церкви Усть-Птичевска и строгие слова заячьего учителя – Джимбинова. «А не пойти ли к нему? – подумал Заяц. – Но с чем? – спросил он сам себя. – Может, с рукописью? Той самой, от которой отказалась Белая деваха… отказалась и забыла…»
– Эй, вставай! – потрогал он её за плечо.
– Ты слишком долго блуждал в космосе…– ответила Деваха сквозь сон, – теперь всё за деньги! За капустные, жёлтые, яблоневые, заячьи листочки, запечатлевшие профили царей и бабочек, порхающих в безмолвии. О, эти вензели. Ветки, листы, прожилки. Мы – рабы денежного обращения! Мы в тяжком плену, мы узники, мы графы Монте Кристо…О, Заяц! О твои жалкие стихи…О-о-о, гусеницы, ползущие по ним, пожирающие их, как заячьи, капустные, яблоневые монетки! Гнусные!
Белая деваха, выразив свои чувства, заснула вновь. Она завернулась в ситцевую шаль и захрапела.
– Очнись! – потряс Заяц её за плечо.
– Здравствуй! – пролепетала деваха. её глаза распахнулись окончательно. – Ты кто такой?
– Я? – изумился Заяц. – Ты что, забыла?
– Забыла! – призналась деваха.
– А кто ты такой, чтобы тебя помнить вечно? – вступил в разговор дед Гиппа. – У нас вообще памяти нету! Она нам ни к чему. Вот слух, зрение, обоняние, осязание, чувство голода – это да! А память – это роскошь! Это достояние знатных и богатых. Нам путаться с памятью незачем! У нас всё просто. Утром встал. Потянулся, чтоб кости хрустнули, жилы вытянулись, чтобы сустав в подсуствчик вошёл. Эх, хорошо! Кваса выпил, если голова трещит, а то брусники на меду, али перцовки на капустных листьях. Яблоком хрумкнул, заговелся. А после на крылечко – шасть, собаке кость бросил, кота кашей накормил, птицам крошек насыпал. А то голубя споймал, шею отвернул, ощипал и на огонь, жарить. Самокрутку свернул. Затянулся. Голубя с вертела снял, поел кажись, живот огладил и на рынок отправился. А там прошатаешься до вечера. Чего-нибудь продашь, чего-нибудь купишь, в забегаловке выпьешь, подерёшься, домой весёлым придёшь. Сядешь у окна, в иллюминатор глянешь и песню запоёшь белыми губами! Хорошо! Затем на печь взберёшься и задремлешь. Важно ещё валенки просушить, одежёнку какую никакую поштопать, и – до утра! А чего мы помним? Если живой, так про пищу думаешь, про болтовню бабскую, про бои кулачные, про рёбра ломаные. Нам не до Мендельсонов, не до Макдональдсов, не до Мандельштамов! Нам и так хорошо дневать-почивать, яблочного разговения ждать, соседей ругать. Лишь бы хвори не было. Неприятностей каких. А!
– Чего же вы тогда летаете? К чему вам? – спросил Заяц, глядя на Гиппу.
– Так это нам газ провели, – признался дед, – трубы в избы толкнули, где раньше умывальники стояли. Мы что могли оторвали и продали, а чего осталось, так хворостом то место закидали. А в это время газ дали, оно и бабахнуло! Всем селом взлетели. Но, клянусь валенками, это не надолго!
В этот момент кто-то постучал в дверь. И деде Гиппа отодвинул ситцевую занавеску.
– Кто там на стыковку идёть? – спросил он.
– Свои! – дверь отворилась. Вошла Клавдия.
– Утречка тебе! – поздоровался Гиппа.
– Как твой постоялец? – спросила любопытная.
– Живёт себе, хлеб жуёт.
– Пришли его ко мне.
– Для чего?
– Дров поколоть!
– Ладно, пришлю!
– Тогда пока!
– Договорились.
Клавдия отстыковалась от избы Гиппы и пристроилась возле Меркурия.
Завершался полный круг Водолея. Было тихо по ночам и ясно днём. Было время тоски и ожидания. Плавного. Нежного, птичьего перелёта вдаль. В каждой избе теплился фитилёк удачи возле деревянного идола. У каждого был идол свой. У кого Макошь, у кого Стрибог, у Гиппы – Даждьбог.
Уж очень Гиппа воду любил, особливо снежную, бурянную да с ветерочком, бульканьем. И лужи – с воробьями, барахтающимися в тёплой пресной жиже. Моросящий дождь – к урожаю, крупный – к теплу, косой, стригущий – к затяжной осени, к плаксивому утреннему сну, к боязни по ночам, к вспучиванию живота. А вот град с горошину – к неприятностям, как видение с копейку а несчастий с рубль! То с соседкой поругаешься, то оклеветят тебя, то на рынке поколотят. А тут ещё невесомость замучила. Ежели с утра не привяжешься, то до вечера болтаться будешь! Неплохо ещё и собаку свою к дереву привязать, кота – к ножке кровати, канарейку в клетку запереть, да куриц в сарае колпаком из прутьев накрыть. Калитку тоже на ночь закрывать надо! А то с петлей сорвёт, а на Марсе, где яблони цветут, что без калитки делать? Как дух завораживать?
О, велика история Усть-Птичевска! Да никто её не помнит. Знаем, что есть она, а в суть не вникаем, нам не до Александра Македонского, не до Византии! У нас свои сплетни, свои радости! И страхи тоже свои! Так бывает по ночам тревожно, если привидится чёрт с рогами, или баба с пирогами, точно не разговеться!
Так и знай, лопоухий!
Заяц подошёл к столу, налил похлёбки. Добавил халвы, сухарей, сметаны и съел.
Небо вертелось под ногами, как котёнок, царапалось.
Надо было нарвать чебреца, чтобы рот ополаскивать, косы мыть. Веток набрать, чтобы из-под ногтей грязь выковыривать. Да мало ли дел? Мужу скалкой врезать промеж глаз за его пьянство. Повыть о неудачном житье-бытье, о внуках, о хворях, о напастях, о разбойниках. Потосковать, порадоваться, а к вечеру забыть про всё, чтобы утро начать с белого, яблочного, капустного листа.
Заяц вздрогнул от необъяснимых толчков. Видимо, изба деда Гиппы, прорвавшись сквозь неоновую занавесь, достигла новой сферы. В окне что-то чавкнуло. Проблеснуло мелкой стружкой искр, легонько шмякнуло над трубой и стихло.
– Ух, ты, – прошамкал дед Гиппа, направившись в уборную, – у меня от искр колики в животе, аж кишки переворачивает!
– Если у вас непереносимость к космосу, то зачем вам непременно надо было лететь? – вежливо осведомился Заяц.
– А вам зачем это непременно знать? – съязвила Белая деваха..
– Он вообще суёт нос, куда не следовает…– вставил дед Гиппа, возвращаясь из туалета.
– А не подали ли на вашу деревню в розыск? – не обращая внимания на ворчание старика, спросил Заяц.
– Ага! Жди! – усмехнулся Гиппа. – бывало целые города пропадали. Никто их не хватился. Даже страны. Как сквозь землю проваливались!. Была одна такая. Как её бишь, – дед Гиппа почесал затылок, – ой, не помню, как вроде на букву «Ру» начиналось название. В единый миг эта Ру куда-то сиганула! У неё спрашивали, куда ты мчишься? Она молчит. Наверно. от кого-то скрывалась, натворила чего-нибудь, напакостила и убёгла! Так-то вот. А тут деревня ускакала под небеса. Ну и чего? Она размером всего с бабочку-капустницу. Вот и упорхнула. Дорог возле неё нету, колодец был да высох, озеров-морей вокруг неё отродясь не видели. Кому она нужна? Государству7 господь с тобой, лишнюю копеечку в неё вкладывать никому не охота! Ни прибыли от неё, ничего умного. Одно пьянство да тугодумство! Начальство обрадовалось, когда деревня в небо подалась! Вот лежала она на своих лугах, оврагах да погостах – такая жалобная, хилая, худорёберная, утопала в садах, в лопухаха-огородах да болотах с лягухами, жуками-плавунами, с воробьями да воронами. Кому она нужна?
– Отлично! – произнёс Заяц. Он вновь искал выход из ситуации.
А в это время гоготало, кукарекало, голосило утро. Вот она просвещенческая миссия рассвета! Подать знак о том, что мы обладаем некой информацией о своей цивилизации!
В Усть-Птичевске тоже всё было по-прежнему. В харчевне подавали завтрак на белых крахмальных капустных скатертях. Сама Альбина спустилась в подвал для трапезы. Это была неделя чревоугодия. На скатерти в цветных тарелках красовались блины с творогом, земляникой, картошкой, морковью и, конечно. с капустой. Также блины с маслом. Сметаной, вареньем, гречневой подливкой, с джемом из ягод. Грибочки лоснились в глиняных чашках. Пахли маринадом, уксусом, тмином, чесноком. Подавали кисели вишнёвые, смородиновые, грушевые и яблочные наливки, медовую брагу и сливовую настойку на десерт.
О. Рябиновая сладость угощения, о розовощёкие, насытившиеся гости, о ласковые щедрые хозяева!
Вместо салфеток подали ненапечатанные рукописи, так сказать, отказные, отвергнутые Альбиной Александровной. Рукописью Зайца утёрлись первые ряды. И грустно им стало и немощно! И утёрлась Альбина жалостными строками Зайца и поперхнулась слюной и стала задыхаться! Ринулись к ней читатели, но перегородила им дорогу занавеска между издателем, кодовый замок на дверях, забор с железными прутьями да электрическим током в проводах оголённых. Еле откачали бедную Альбину!
Зайца слегка поташнивало. Он не привык летать. Вот на поезде – это пожалуйста, в любой конец света! На троллейбусе или трамвае без билета, обманув контролёров – тоже неплохо! Но в избе, на привинченной к полу лавке, вот уж увольте!
Дед Гиппа растопил печь и поставил варить щи. Белая деваха подсела к зеркалу, засиженному мухами, и стала расчёсывать белые густые волосы. Вдруг раздались печальные звуки.
– Скрипка! – ахнул Заяц.
– Виолончель, – поправил его дед Гиппа.
– Давно я не была на концерте, – признала деваха и пошла наряжаться за занавеску.
– Сегодня третий день, как мы в пути, – грустно заметил дед Гиппа.
– Вас это не удручает? – спросил Заяц.