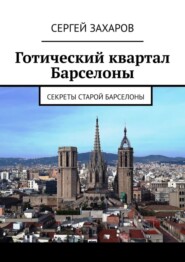По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каталонские повести. Новая проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И в то же время мы много, много – сейчас кажется, бесконечно – и с бесконечным же удовольствием ходили по магазинам, накупая горы самых разных вкусностей, которые потом так же бесконечно и с тем же жадным удовольствием, поедали – нам нужны были силы для постельных ристалищ.
При этом я замечательно помню, что мы любили подолгу и просто лежать, переплетаясь с другом другом везде и всем, чем только возможно – лежать и слушать наше общее сердце. Нам приятно было лежать так: без пространства и времени, без памяти и тоски, растворяясь друг в друге и в ощущении дарованного нам непонятно откуда горячего счастья. Лежать так, одним и единым «мы», тоже можно было бесконечно, да так оно, кажется, и было.
И ещё: когда Маша спала, я любил смотреть на неё, спящую. Усаживался на край кровати и смотрел – долго, долго. В первый дурацкий раз я даже не запомнил её лица, и потому наверстывал упущенное, смотрел, смотрел и не мог насмотреться, это затягивало и грозило поглотить без следа, да я и готов был, и хотел – поглотиться: мне нужно было выучить, до самой малой морщинки, родное её лицо на несколько месяцев вперёд… Думаю, она чувствовала взгляд мой, потом что, спустя полчаса или час, тихонько стонала во сне и начинала водить рукою обочь себя, там, где должен был находиться я – и я спешил улечься в постель обратно.
Сейчас, по прошествии времени, создаётся ощущение, что на эти совместные несколько дней наши с Машей субстанции, по неизвестной милости, раздваивались, растраивались и даже раздесятерялись, и каждая из наших параллельных пар жила от начала и до конца исключительно своей задачей – чтобы мы могли как можно больше успеть…
Да, да, именно так и было: много, жадно, и быстро, быстро, взахлёб – потому что вот-вот все должно было закончиться, и конечно же, заканчивалось, и я стоял на перроне – один, и перрон с поездом, разругавшись насмерть, устрашающе мчали в разные стороны, и все потому только, что нельзя, невозможно надолго – чтобы людям было так хорошо…
Конечно же, я видел и другое. Я видел, что ей все тяжелее становится лгать, придумывая несуществующие поводы для визита к московской родственнице, и видел, что все более тяготит ее сама необходимость этого вранья.
Именно так – даже не измена мучила ее более всего: цельная Маша считала, что невозможно изменить мужчине, которого не любишь и не считаешь настоящим мужем; секс и вообще для нее существовал лишь в приложении к любви – и потому, в сложившейся ситуации, неестественной, напротив, для нее являлась необходимость спать с тем, кого она не любила – необходимость, которой она старалась по возможности избегать… Не измена, но ложь, летавшая, словно маятник, смертным грузом над головой, причиняла ее наибольшие страдания.
Ложь уродовала и низводила наши отношения до уровня банальной интрижки, какого-то мелкого и пошлого приключения на стороне, хотя обы мы знали, что это не так. Ложь, даже приправленная какими-то оправданиями, была сама по себе блюдом малосъедобным – и потому, когда все внезапным образом раскрылось, мы испытали явное облегчение.
* * *
Вообще, все происходило не так уж «внезапно». Не стоит сбрасывать со счетов Машиного мужа, о котором я не люблю вспоминать, но без него никак не обойтись: все же во всей этой истории он был лицом не совсем сторонним. Более того, вот подумалось сейчас: если бы у Маши с ним все было складом и ладом – разве появился бы я в её жизни? Нет, нет и нет! С этим даже Маша иногда соглашалась – подчеркиваю: иногда. А если бы я не появился в жизни Маши, или, точнее, она в моей – разве существовал бы я теперь? Разве лежал бы сейчас в своей прекрасной каталонской глуши, решая замысловатые ребусы относительно того, кто там, кого и как разлюбил? Нет, лежать-то я, конечно, лежал бы, но в другой стране, и не в постели, а на Ново-Белицком кладбище, полагаю – будь все у Маши с мужем хорошо. Как удивительно, прекрасно, непостижимо заплетается все в магическую нить, и потому, так уж выходит, Машин муж – персона совсем в этой повести, да и жизни моей, не чужая.
Достаточно долго муж существовал для меня в виде абстракции, о наличии которой мне было известно по косвенным признакам, в частности, Машиным случайным упоминаниям. Были они очень нечасты, и все, что я мог понять из ее обрывочных высказываний – это то, что прежней близости больше нет. Сам я, в особенности, после ее приезда ко мне, эту тему старался не затрагивать вообще – в конце концов, это был Машин муж, а не мой, и регламент в этом вопросе устанавлилвала она. По-настоящему я осознал сам факт его материального присутствия только после того, как стало понятно, что у нас с Машей – не просто так.
К тому времени кое-что Маша стала рассказывать и сама, не о нем даже, а о них, о совместной их жизни – не злословя и нее оскорбляя, но, напротив, пытаясь максимально объективно объяснить и мне, и себе, почему случилось то, что случилось – а именно, первая и единственная в ее супружеской жизни измена. Ей важно, очень важно было понять это самой – а заодно, убедить меня в том, что случившееся – событие в ее жизни уникальное, выходящее из ряда вон. Впрочем, меня в этом убеждать не требовалось: я говорил уже, что почувствовал Машу – всю, до донца – едва ли не в первй момент знакомства, почувствовал и знал наверняка, что врать она не любит и не умеет.
Да, да – не умеет. Если бы даже муж был слеп, как четыре крота, все одно пребывать в неведении ему пришлось бы недолго – Маша, измучившись ложью, призналась бы ему во всем сама. Она и так не очень-то скрывалась. Как только серьезность наших с ней отношений обозначилась явно, она, например, быстро перебралась из супружеской спальни в закуток между кухней и прихожей, перетащив туда компьютер и туманно объяснив мужу, что для того, чтобы заниматься писательским делом, требуется абсолютное уединение. Из уединения этого ему удавалость вырывать ее все реже и все с большим трудом: как я говорил уже, плотские отношения без любви Маша считала все той же ложью, какую не переносила на дух. Согласен, можно понять и мужа, и даже посочувствовать ему, далекому от всех этих тонких душевных материй – но любовь жестока, как ребенок, и авторитарна, как вахтер. Она не спрашивает и не предлагает – но ставит в злую известность.
Сейчас, когда мы с Машей не вместе, я говорю об этом без всякого ерничанья и просто стараюсь быть максимально точным относительно всех троих – Маши, мужа и меня.
Первые подозрения… Первые серьезные подозрения в том, что Маша что-то скрывает, появились у мужа в связи с той самой книгой, в которой она приняла необъяснимо живое участие, и на обложке какой, а заодно и в жизни его впервые проявилась моя хмурая и откровенно подозрительная даже мне самому физиономия. По словам Маши, муж сразу же невзлюбил меня, заочно и горячо – что же, как выяснилось, нелюбовь эта оказалась пророческой.
Когда же Маша, уже после завершения всех книжных дел, зачастила вдруг в Москву к родственнице, с которой до того встречалась ровно трижды за десять лет – подозрения эти только усилились. Да и не зря, в конце концов, они прожили столько времени вместе: не мог он не чувствовать, что с Машей что-то происходит. Когда подозрения обратились в уверенность, муж со свойственной ему царской прямотой принял меры: нанял специалиста, взломавшего ее почтовый ящик. О, человеческое неуемное любопытство! Наша переписка была обильна и чиста – но явно не предназначена для его слегка близоруких глаз.
Хорошо помню Машин звонок:
– Ну вот, он все знает! Взломал мою почту, обнаружил наши письма. Наконец-то этот кошмар закончился, – она говорила тем неестественно ровным голосом, который бывает у людей в состоянии глубокого шока, – и вместе с тем я видел, что она испытывает сильнейшее облегчение, как будто добралась, наконец, до дантиста и вырвала причинявший жестокую боль зуб.
– И что? Что там происходит? Как ты? – зачастил испуганными вопросами я. Я не знал, что бывает, когда муж обнаруживает измену жены. Мне не приходилось быть мужем. И жены у меня никогда не было.
– Как и предполагалось, – отвечала Маша спокойно. – Рвет и мечет. Разбил вазу и с десяток тарелок. Вазу жалко – моя любимая. Была. А он – истерит. Орет, что все принадлежит ему, и, если я не одумаюсь, то сдохну от голода под забором. Это, собственно, я и ожидала услышать. Он и раньше намекал уже как-то, что со мной, в случае чего, будет. Так, для профилактики, видимо. А сейчас бесится, визжит, как баба. Слюной брызжет… Противно. Я закрылась у себя – пусть успокоится, чтобы с ним хоть как-то можно было разговаривать. В общем, он не решил ещё, как со мной поступить – может, и вообще, по его словам, прощения мне никакого не будет.
Я слышал и ощутил, за четыре тысячи километров, как ее передернуло.
– «Прощения»… Господи, как же я рада, что он вскрыл эту почту! – искренне сказала она. – И как жаль, что я потратила на него двадцать лет жизни. Я ведь давно видела, что происходит – но зачем-то терпела. Царь, видишь ты… Царёк. Тьфу, мерзость. На твой счет прохаживается, естественно. В лучшем случае, говорит, этот алкаш и уголовник бросит тебя через неделю, а скорее всего – убьет. Зарежет по пьяни. Ненавижу. Не-на-ви-жу. Тьфу! Дура! Я дура. Как хорошо, что все закончилось. И врать не надо – я ведь, с этим своим враньем, хуже него была. И вина моя перед ним в том, что не нашла в себе силы рассказать обо всем сразу. А теперь – все. Давно нужно было… И ведь не знаю, что делать сейчас.
И здесь, милая Маша, в противовес всем твоим упрекам в том, что я никогда не любил тебя, хотел бы напомнить, что после слов твоих я – этот мизантроп и одиночка я, этот отшельник и пустынник я – поразмыслив ровно секунду, сказал:
– Как это «не знаешь»? Тут и думать нечего! Приезжай ко мне – прямо сейчас! Вот прямо сейчас и приезжай!
Это один из немногих поступков моих, за которые мне не стыдно – за то, что так не долго собирался с мыслями перед тем, как произнести эти слова. А ведь раньше, до тебя, Маша, я бы, не колеблясь, постарался отмахнуться от проблемы и ляпнул бы, притом, даже грубо, что-нибудь вроде: «Делай, что хочешь. Твоя проблема. Сама эту кашу заварила, сама теперь и расхлебывай. Силой тебя никто ко мне не тащил. Нужно было думать о последствиях.»
Не сомневаюсь даже, что ляпнул бы: за одинокие годы я привык к ней – своей личной автономии и цнил ее превыше всего. Но это раньше – до тебя, Маша. А тогда… Тогда впервые в своей никчемной жизни, я ощутил ее: ответственность за другого человека. Знаю, звучит выспренно – но так и было. И так, с большим запозданием, начиналось мое настоящее взросление.
Именно в то время, когда самолеты и поезда приближали Машу ко мне, уже в «официальном статусе» и стостоялся мой первый «живой» разговор с мужем, в ходе которого он преподал мне тот самый урок житейской мудрости, но на этом свою бурную деятельность по возвращению блудной Маши в свой чертог не прекратил.
Как я уже говорил, поначалу он пытался застращать Машу нищетой и подзаборной жизнью, которая неминуемо ждет ее, если она не одумается и не забудет о моем существовании навсегеда. Когда же Маша не застращалась, не одумалась и все-таки улетела ко мне, ясно дав понять ему, что излюбленным домашним животным быть при нем больше не желает, муж несколько приуныл, но сдаваться не собирался.
Мне, к слову, и вообще странно, что, прожив с ней два десятка лет, он так и не усвоил, что пытаться запугать Машу – дело заведомо проигрышное. Она действително могла долго терпеть, но когда доходило до открытой конфронтации, любая попытка давления на нее давала эффект, прямо противоположный ожидаемому. Как и во мне, в ней был сильно развит дух противоречия – что позже очень мешало нам на протяжении нашей совместной эпопеи.
Тогда же муж здраво рассудил, что еще далеко не вечер (так и было, на деле едва-едва занималась заря), и планомерно принялся воплощать свои угрозы в жизнь. Первым делом, в рамках программы экономического воздействия, он снял со счета предприятия весьма внушительную сумму, предназначавшуюся на зарплату рабочим – а позже искренне (так и представляю его ясные, как родниковая вода, глаза) заявил Маше, что деньги, находясь в состоянии глубочайшего горя, он потерял – все, как есть – и даже не помнит, как, когда и где это случилось. Гм… Гм… Поверить ему невозможно, проверить – нельзя, потому вопрос этот пустослов Антея целиком на его совести. Впоследствии, кстати, мы с Машей выплачивали этот долг два года – сам муж к тому времени успел покинуть страну.
Но все это было позже, а тогда – тогда сложно даже представить, как пришлось страдать мужу – в его-то царском положении. Ведь – царь! А воле царя не перечат. Царю не изменяют. От царя не уходят, а если все же уходят – то какой он, к чертовой матери, царь?! Барахло, прямо скажем, а не особа с божественным правом – и всякому это должно быть понятно. Его и бесило, что всякому – всему разномастному кругу их родственников и друзей, которые окопались здесь же, в Барселоне – это будет ясно, как день. Машин взбрык, непонятный и недопустимый, грозил изрядно подпортить царское реноме, а то и вовсе сбросить его с горних высей на пыль греховной земли.
Уверен, вожделенной мечтой его было увидеть, как Маша и ее новый избранник, то бишь, я, окончательно протянут с голода свои развратные ноги – и поползут к нему, царю, каяться и сыпать на безмозглые головы пепел. Ползти, сыпать и каяться должна была, главным образом, Маша – мне в этом сценарии отводилась седьмая роль. Я мог, конечно, ползти, но мог и просто лежать в сторонке, не подавая признаков жизни – и просто не мешать. Меня, скажем так – почти не было.
Муж, я знаю, всегда считал меня безродным и нищим алкогольным псом, уголовником и авантюристом – величиной, для царя нулевой, а для «человека благородного» – отвратительной. Более того, убежден, он даже и не воспринимал меня, как человека, но, скорее – как дурацкий и дурацким же образом затянувшийся Машин каприз, который рано или поздно изживет себя и перестанет существовать.
Маша же – дело другое. Думаю, где-то глубоко, в самой Марианнской впадине своей сумбурной души он все же понимал, насколько Маша чище его, и понимание собственной ущербности вряд ли было приятным – хотя не думаю, что мысли эти беспокоили его часто.
Куда более, как я сказал уже, задевало его то, что Маша посмела посягнуть на царский его статус – и за это ее следовало наказать примерно и жестоко, проведя через все мыслимые круги приватного унижения – и потом, потом, продержав в одной власянице и босиком трое суток на зимнем ветру, как бедного Генриха в Каноссе – возможно, простить. Может быть, и даже скорее всего – но с ааааггггррромнейшими оговорками. И была бы Маша после при нем бесправной и бессловесной преступницей на вечном испытательном сроке.
Повторюсь, первоначально в его интересах было замять скандал еше до того, как об уходе Маши узнают пресловутые «все», и с титановым статусом царя будет покончено – и действовал он именно в этом направлении.
Вскоре после отъезда Маши ко мне он сделал поистине гениальный в своей беспроигрышности ход: позвонив как-то Маше в очередной раз, он с неподражаемой своей интонацией «благородного человека» (и наверняка приняв при том одну из поз Наполеона) заявил ей, добавив к словам своим нужную толику ледяного презрения:
– Ну что, дождалась?! Даже дети от тебя, от такой матери, отказались!
Разумеется, это было такой же ложью, как и все, что он делал или говорил – однако, зная Машу, рассудил он верно и здраво: одна только мысль о том, что сказанное им может оказаться правдой, была для нее страшнее смерти, чистилища и ада, взятых вместе. Я видел, как она, слушая, мгновенно умерла лицом и замерзла в себе.
Придя в себя, она тут же обзвонила всех трех (уже совершеннолетних и, кстати, способных понять все адекватно) и несколько успокоилась: никто и не думал от нее «отказываться». «Муж номер два» попросту выдал желаемое за действительное – так и пнул бы его за дешевую и пошлую, как сам он, патетику в ребра!
И все же зерно сомнения дало всходы. Чуть погодя Маше вновь стало казаться, что так и есть – дети от нее «отказались», а не говорят ей о том лишь из остаточной жалости: единственного, что способны к ней сейчас испытывать. К тому же, она прекрасно знала, каких невероятных небылиц способен был «царек» наплести и, без сомнения, наплел им.
Две недели я наблюдал, как Маша день ото дня закрывается в себе – наблюдал, все более отчетливо понимая, что перспектива нашей с ней жизни в моей стране рушится безвозвратно. Хитрюга муж нашиел ахиллесову пяту Маши – к концу этих двух недель она поняла, что жить вдали от детей попросту не сможет.
Что же, это так: ни тогда, ни после Маша не отрицала, что она – «сумасшедшая мать». Мы сели и обсудили ситуацию. Маша собиралась, по ее словам, слетать ненадолго в Барселону, созвать еще один семейный совет, теперь уже с ее участием, и расставить все точки над «i».
– Я просто хочу, чтобы дети знали всю правду – а не ту дрянь, которую он посчитал нужным им сообщить, – сказала она. – Уверена, они все поймут и не осудят. Но я должна убедиться в этом лично, глядя им в глаза. Это мои дети, и для меня это очень важно. И еще, – добавила она. – Я хочу все же побороться. Какого черта этот царек решил, что все принадлежит ему? Я, в конце концов, придумала этот бизнес, и я когда-то пахала как проклятая, пока все не наладилось. А потом сделала его «директором» – и вот к чему это привело. Но сама дура. А сейчас я просто хочу, чтобы он в пристутствии детей еще раз рассказал, кому принадледит все – и посмотрю, что он запоет. Одним словом, я должна быть там. Что ж, слетаю и сразу вернусь.
Полагаю, она верила, или почти верила, в то, что говорила: слетает и вернется. Но я знал уже, и знал со стопроцентной точностью: как бы там у них не разрешилось с мужем, жизни у нас с Машей здесь, на моей постсовковой родине, не будет. И если даже через месяц она вернется, то вскоре снова улетит – туда, к детям. И глупо было бы осуждать ее за это. И никакого права осуждать ее вообще за что-либо у меня не было. Да и не думал я, честно говоря – осуждать.
В тот раз, провожая ее на вокзал, я совсем не был уверен, что мы когда-либо увидимся с ней еще. Я не был даже уверен, что она позвонит мне, когда доберется до своей Барселоны. Вот такая история: все рушится – и виноватых нет. Чтобы понять, что тебе по-настоящему дорого, нужно обязательно этого лишиться.
Если бы все происходило раньше, я знал бы, где утопить тоску. Я бы попросту купил сорок восемь бутылок, плюс минус две – и проблемы перестали бы для меня существовать – все, разом. А сейчас у меня даже такой возможности не было. Я решил, что первым ни звонить, ни писать ей не буду – пусть, если сочтет нужным, сделает это сама. И все скажет – все, о чем я и так уже догадывался.
Она не выходила на связь сутки, другие и третьи – а потом, в неожиданную полночь, во тьме и спросонья, я бежал, сшибая углы, на грустно-задумчивый вызов Скайпа.
Звонила Маша, чтобы сказать мне то, что я и ожидал услышать. Теперь мы пользовались Скайпом, к голосу прибавлась еще и картинка, и по родному, по любимому лицу ее я видел, что опять она ревела и, похоже, не одну ночь напролет.
– Ну что… Прилетела и собрала всех еще раз, на семейный совет – и этого козла, и детей, – сказала она. – Сидели на террасе, говорили до утра. Попросила еще раз, при детях, повторить: кто здесь «всего добился сам», кто отправится «под забор». Начал было ерепениться, так я ему напомнила – все обстоятельтва нашей жизни. Долго напоминала – там есть что. Признал, в конце концов, что моего труда тут не меньше вложено, мягко говоря. Признал – хотя что это меняет… Сейчас, кроме обмана и подлости, от него ничего не добьешься. Господи, сколько же лет я слепой дурой жила! Все связи и контакты теперь у него – и я сама же это и допустила. Но это ладно, это мы еще поборемся. Я о другом, о главном хочу сказать. Вот вернулась сейчас и поняла окончательно, что не смогу я без них – без детей. Не смогу. Они для меня все такие же – такие же маленькие и останутся такими всегда. Им нужна я – а они нужны мне. Как только этот козел поймет, наконец, что к нему не вернусь – а я к нему не вернусь ни в коем случае – то он тут же и думать про них забудет. Даже про мелкого, про родную кровь – не говоря уж о старших. У него такое уже было один раз – с первой семьей. Вычеркнул и забыл, как и не было их. Так и этих вычеркнет. А куда мои дети без меня? Кто им поможет? Какие они, к черту самостоятельные – так, видимость одна. Вот так. Вот такая ситуация. Я и бросить их не смогу, и жить без них – тем более. Сейчас я окончательно это поняла. И без тебя я жить не смогу тоже. Господи – что же это такое? Часто прилетать к тебе сейчас не получится: с деньгами все хуже, да и козел этот наизнанку вывернется, чтобы оставить меня вообще ни с чем. Он найдет способ, не сомневайся. У тебя тоже не те доходы, в твоей-то стране. Какие перспективы? Будем встречаться раз-другой в год, на несколько дней. На сколько нас хватит – не знаю. Не думаю, что надолго. Вряд ли мы это выдержим – долго. Есть ли выход? На мой взгляд, есть, и знаю, что ты и слышать о нем не хочешь. Но все-таки скажу: единственный выход – ты переедешь в Испанию, ко мне. Знаю-знаю, ты сейчас невыездной из-за судимости, но ведь через год, ты говорил, ее снимут? Если бы, если бы ты согласился – это был бы выход…