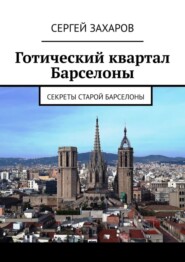По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каталонские повести. Новая проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но главное, главное, о чем я должен был помнить всегда, но чаще предпочитал забывать: я жив только из-за неё, Маши. Я ей кое-чем обязан. Всем, если начистоту. Она, черт бы меня взял, разглядела в погибающем мне что-то такое, чего не видел никто, включая меня самого; что-то такое, ради чего отказалась от всего, кроме детей. Потому что она такая – Маша. Святая – иначе не скажешь. Местами грубая, временами резкая, часто упорствующая в своей неправоте – но святая. И то, что она сама предлагает мне сейчас уезжать, понял вдруг я – очередное проявление ее непостижимой для меня святости. Она же видит, как лезу я на стену, психую и томлюсь в чужой стороне – и просто отпускает меня на волю. Дает мне все карты в руки. Потому что знает: если я приму решение уехать сам, то нет-нет да и буду угрызаем потом ночными укорами совести – или того, что у меня имеется под этим ярлыком.
А так – все «благородно». Это не я сбежал и бросил её – это она предложила мне уехать. Можно даже сказать, выгнала меня. «Она сама!» – как выразился когда-то мой предшественник. Даже сейчас, теряя меня, она думает обо мне. И я, разумеется, могу принять ее игру. Могу оскорбиться, зацепиться своей мужской городстью за это ее «убирайся, словно ребром за крюк, взвыть от праведной боли – и уехать. Уехать и даже считать себя «благородным человеком», и это будет «почти правдой», о которой мне кое-что уже известно. Известно достаточно, чтобы понимать – никакой «почти-правды» нет и быть не может.
Есть правда, и есть ложь. И правда заключается в том, что если я уеду сейчас, то просто-напросто сдамся, поступлю как самый распоследний трус. И брошу Машу у расколоченного в злые щепы корыта – расколоченного не без моего горячего участия. И буду никем иным, как той самой «сукой», какой окрестил меня Пушкин в последний мой день на родине. Сказать тебе могут все, что угодно. И позволить – все, что заблагорассудится. Но истинная мера всех вещей – внутри тебя, а никак не снаружи. И куда бы ты не уехал, она всегда пребудет с тобой. Можешь схорониться хоть за Полярным Кругом – тебе от нее не сбежать. Это-то я способен понять.
Может быть, способность кое-что понимать и разглядела во мне Маша когда-то? Способность понимать, например, что слово «уезжай» может означать «останься»? Не знаю, не знаю… Но что-то же, она, в конце концов, разглядела, единственная из всех?! Разглядела и бросила ради меня все. А теперь вот предлагает мне свободу. Но если я предложением этим воспользуюсь – это трудноуловимое «что-то» перестанет во мне существовать – враз. И хочу я этого или нет – решать только мне. Я и решил – в тот самый момент, когда последовательная Маша почти заказала уже – билеты на самолет.
Решил еще и потому, что провел мгновеный и действенный тест: попытался на миг представить эту картинку: я без Маши, Маша без меня – попытался и не смог. Картинка не складывалась – совсем. Реальность, в которой Маша и я существовали порознь, была невозможна – даже умозрительно. Убедившись в этой невозможности, я бросился восстанавливать мир.
Мы тогда всю ночь говорили, закусывая кофе сигаретами, и я многое обещал ей, и – пусть не все и не сразу – старался в дальнейшем, по мере скудных сил своих, выполнять. Во всяком случае, я ни разу не назвал ее с той поры дурным словом. И длиннейшие, занудно-садистские словесные истязания, в которых мне непременно нужно было поставить на своем, и которые обескровливавли ее хуже всего прочего – тоже старался урезать все более. Да и Маша, умевшая в пылу ссоры наговорить самого лишнего и знавшая замечательно, чем меня уесть больнее всего, тоже обещала поубавить пыл – мы медленно, ощупью и в темноте, учились жить вдвоем, и у нас, кажется, начинало помаленьку получаться.
Что до общего положения дел в первые мои испанские месяцы – оно тоже не радовало.
Вскоре после того, как Маша, живущая по привычной для нее программе обуреваемой страстями святой, вывезла меня в Барселону, ад не замедлил последовать за мной: во всяком случае, в экономической своей ипостаси.
Кризис, который до того лишь повертывал Испанию тяжелой когтистой лапой с боку на бок да покусывал легонько, не до смерти – взъярился коротким мигом, вогнал клыки на смертельную глубину и принялся методично душить. Небольшая строительная фирма, которой на паях с мужем владела Маша, и которая ещё задолго до моего появления здесь демонстрировала симптомы серьёзной болезни, задышала, как и тысячи других, прямо ла ладан: судорожно, хрипло и неглубоко. Очевидно было, что через полгода, много, год она погибнет окончательно, в наследство оставив большие долги и длительные судебные тяжбы – как оно впоследствии и случилось.
Муж, как и прежде, неуклонно воплощая в жизнь свою программу анти-Машиных экономических санкций, продолжал с удовольствием мстить, обманывая ее напропалую даже относительно тех шатких доходов, что еще были.
Львиную долю «молока» (так на жаргоне в Испании зовутся деньги), которое пока давала эта корова, он потреблял сам, а остатками, в виде милостыни, одаривал Машу – это, кстати, позволяло ему считать себя тем самым «багородным человеком» – выражение, навсегда с тех пор звучащее для меня оскорблением. Истинный размах его перманентного обмана мы узнали много позже – когда это никого удивить уже не могло.
Убедившись, что Маша к нему не вернется, он возненавидел ее так, что на фоне этом моя глубокая инстинктивная неприязнь к нему казалась любовью.
Помню, в один из его приездов… Да, было время, он частенько приезжал к нам: привезти, или, напротив, забрать кое-какой сварщицкий инвентарь, и мне, хотел я того или нет (не хотел) приходилось видеться с ним.
И каждый раз, помню, со мной происходило одно и то же: я не мог выбросить из головы мысль, что отобрал у этого человека жену, и потому старался быть предельно вежливым с ним. Кроме того, и это я тоже помню очень хорошо, муж все же обладал определенным гипнотизмом, заставляя меня, во всяком случае во время беседы, испытывать к нему едва ли не дружеские чувства – наваждение, которое рассеивалось лишь через полчаса после его отъезда, не ранее.
Муж приезжал, вставал на аварийку, делал звонок – и мы с Машей стаскивали неудобный металлический ящик узкой лестницей вниз. Муж приветливо здоровался с нами обоими, ободряюще заглядывал в глаза мне, и руку жал так же ободряюще: дескать, не дрейфь, брат, все рано или поздно наладится.
И одет он был неброско и хорошо, и пахло от него дорогим одеколоном, да и вообще, надо признать, он был обаятелен – с легкой, ухоженной каштановой гривой и усами «а ля Чак Норрис», из-под каких он то и дело охотно высверкивал улыбками, а то и теплым горловым смехом. Впрочем и смех, и улыбки его несли в себе тактичную нотку печали: он всегда, так уж повелось, привозил нам дурные вести. Улыбался и привозил дурные вести. Других и не могло быть – все хорошие он аккуратно откладывал в сторону и оставлял себе.
Тогда мы об этом не знали, и все принимали за чистую монету, и были даже благодарны ему за его обходительность и такт, и беседовали с ним едва ли не с удовольствием: скажем, как симпатичные друг другу родственники, собравшиеся на похороны прабабушки – по поводу печальному, но неизбежному и не отменяющему тихую радость от встречи. К конце беседы, как я говорил уже, муж становился мне почти другом – а после мы прощались с ним и шли, еще неся на лицах мягкий отсвет недавней беседы, к подъезду.
Так вот, в один из его приездов, когда мы так вот расстались, оставив его позади, и подходили уж к подъездной двери, я, ощутив проскочивший рядом злой холодок, ведомый внезапный наитием, обернулся и увидел его: он стоял, сунув руки в карманы и расставив широко ноги, у своего большого, блестящего, черного грузового джипа (купленного в кредит, который он так никогда и не выплатил до конца) – стоял неподвижно и тяжелым, злобным, упрямым, как таран, взглядом толкал Машу в спину, как будто надеялся, что вот-вот она упадет.
Странное двойное выражение примерзло к лицу его – выражение застарелой ненависти и крайнего, в тоже время, презрения. Ненависть, вероятно, предназначалась Маше, а презрение – мне. Заметив взгляд мой, он спохватился, и тут же побежали из-под усов белоногие улыбки, и он замахал мне прощально дружественной рукою, словно добрый и мудрый папа, но миг уже был уловлен: как будто правда со смертной гримасой проглянула из-за угла – и тут же утаилась обратно.
* * *
Да, вот тако оно было тогда, в мои первые месяцы: кризис терзал, нищета нависала, муж мстил, я страдал, вовлекая в страдания Машу – и, казалось, не будет всему этому ни конца, ни исхода.
Каждая из наших с Машей стычек ранила обоих и воспринималась, как маленькая смерть – потому, должно быть, помирившись, мы садились на метро и узжали реанимироваться в центр, где шумный ход большой и веселой жизни ощущался особенно остро.
Как раз в одну из таких «реанимаций» Бог и взял нас, неприкаянных, под свое золотое крыло.
Помню, был теплый, как август, апрель.
Мы с Машей, подставив озадаченные и все равно довольные физиономии барселонскому солнцу, сидели в кафе на площади Каталонии – это мы пока могли себе позволить – радовались новому миру после трехдневной ссоры, гадали, где бы раздобыть источник дохода и наблюдали кипевшую рядом жизнь.
Воздух округ нас благоухал весной, марихуаной и провокацией.
Суровые цыганки, зажав белый пластик стаканов для подаяния в черных мужских руках, прямыми линкорскими курсами утюжили площадь из конца в конец, и, натыкаясь на интуристов, не просили, а убедительно требовали от них немедленных инвестиций в румынскую экономику.
На остановке, в ожидании двухэтажного туравтобуса, выстроилась яркая и кривая, напоминавшая крикливый знак вопроса, очередь. Мордатые голуби, закормленные до полусмерти гостями каталонской столицы, лениво клевали из рук, и, окончательно пресытившись, развязной походкой пьяных моряков уходили прочь – убредали на своих двоих, даже не думая куда-то лететь.
На тротуаре, у двери Хард Рок Кафе, сидел польский блондин с мужественным лицом и сложением атлета, похожий, как брат-близнец, на юного Дольфа Лундгрена.
Поляк был опрятен, чисто выбрит и удручен. Над тяжелым, с ямочкой, подбородком его то и дело зажигался голливудский фонарик безупречных зубов – он растерянно и хорошо улыбался. Голубые глаза взирали на мир с искренней детской обидой.
Рядом с ним устроен был картонный плакат, на котором большими и понятными буквами, на русском, польском и английском языках, начертана была короткая, сдержанная история его катастрофы: приехал три дня назад в Барселону, был варварскии обворован вечером первого же дня, и лишился не только денег, но и документов – между тем, обстоятельства (умирающая мать) настоятельно требуют его возвращения в Польшу. Будет рад любой посильной и скорой помощи. Всё.
Поляк шел на ура. Пожилые интурстки, одетые всегда дорого и не всегда вкусно, сочувствующе кивали ухоженными головами – и помогали. В аккуратную коробку для помощи изливался золотой дождь. Когда она окончательно наполнялась, из-за угла выходил непрезентабельный, с бегающими глазами человек кавказского вида, пересыпал добычу в пластиковый пакет и исчезал за тем же углом.
Я жил здесь уже три месяца и каждый раз, бывая на площади Каталонии, наблюдал поляка на привычном месте. По словам Маши, он сидел здесь уже пять, как минимум, лет – и за эти годы даже успел слегка постареть.
Помню, как Маша, еще на заре моего пребывания здесь, как-то поразила меня. Присев на корточки рядом с поляком, она принялась утешать его, попутно пришептывая што-то сквозь зубы, и, слушая ответный лживый лепет, велела мне выдать на польское спасение целых пять евро.
Потрясенный и ничего не понимающий, я повиновался. Такая расточительность, откровенно сказать, показалась мне глупой. Позже выяснилось, что это был особый ритуал.
Маша, как я не раз замечал, и вообще была подвержена каким-то шаманским суевериям. Думаю, это семейное – бабушка её, по имени Вася (Василиса), подрабатывала в свое время ведьмой. Тогда же Маша объяснила мне – впрочем, довольно туманно – что целью ритуала является не что иное, как наше будущее процветание. Какая роль и судьба отводились в этом действе поляку, я выяснять побоялся: явно, непорядочному блондину должно было не поздоровиться.
Однако, судя по всему, поляк продолжал процветать – чего нельзя было сказать о нас.
Город изобиловал туристами. Совсем рядом с нами бродило огромное количество денег, а мы не знали, как к ним подступиться. Воспитанные в духе гуманизма, мы не хотели воровать – и не имели ни малейшего понятия о том, как это делается.
Маша, слегка исхудавшая от бизнес-невзгод и моих комплексов, лучилась глазами и курила через агатовый, с золотым колечком мундштук, затягиваясь и каждый раз отставляя картинно тонкую руку.
Я знал, что на нее глазеют, как бывало это всегда – и наверняка, как обычно, принимают за француженку. Мне льстило это, и я старался не думать о том, что до ночи – еще как минимум семь часов, а до постели – тринадцать остановок метро. Впрочем, если бы уж совсем приспичило, и мне, и Маше – мы нашли бы, как решить проблему: мы здорово в этом преуспели. Тогда любовь по несколько раз на дню опаляла нас внезапными вспышками острейшего желания, заставляя искать места для совокупления там, где их в принципе быть не могло – искать и находить, как ни странно.
– Приветствую вас, дамы и господа! – хорошо поставленным и невообразимо пошлым баритоном сказали вдруг за спиной.
Мы разом обернулись в поисках обладателя – голос принадлежал коротконогому, полубогемного вида мужчине с выпирающим из замшевого пиджака пузцем, простым и хорошим русским лицом и забранными в бесцветный хвост волосами: именно они, должно быть, и придавали ему этот флер свободного недохудожника. На худой конец, он вполне мог сойти за фотографа. Однако ни фотографом, ни художником он не был.
Мужчина оказался экскурсоводом, а «дамы и господа» – туристами, собравшимися на пешеходную групповую экскурсию.
О, эти групповые экскурсии! О, эти «дамы и господа»! Именно от этих слов, как сразу догадался я, и происходило ощущение невиданной пошлости, сравнимое, разве что, со стыдом, который испытываешь за тамаду на сельской свадьбе. Я сходу возненавидел эти слова со всей мощью своей пролетарской ненависти – и так же не люблю их посейчас. За вопиющую неуместность, хотя бы: ну, не ходят истинные «дамы и господа» по стадным мероприятиям в три копейки ценой!
«Дамы и господа», если на то пошло, и вообще не ходят по экскурсиям – в лучшем случае, ездят на заднем сиденье в тихих и длинных черных машинах, которым почему-то разрешено парковаться там, куда простым смертным въезд закрыт – уж я-то знаю, сам десятки раз потом сидел спереди, обочь опиджаченного и самого важного из всех нас водителя – в качестве рекомендованного гида. Да, это, пожалуй, они – «дамы и господа», но мне и в голову не пришло бы назвать их так, да и они, не сомневаюсь, несказанно удивились бы, услышав от меня такое. Но все это было позже.
Тогда же, признаюсь без ложной скромности, мы, не сговариваясь, решили с Машей присоединиться к «дамам и господам» и походить с ними: не то, чтобы нам очень уж хотелось экскурсоводческих откровений – просто обилие свободного времени и жуликовато-бендерский вид гида к этому располагали. «Дам и господ» было человек семнадцать – мы надеялись, что сможем среди них затеряться. Выбрасывать деньги на мероприятие мы не собирались.
Отмечу сразу: Андрей (позже мы стали хорошими знакомыми и коллегами) мгновенно и безошибочно вычленил нас, халявщиков, из честной, приехавшей с куротного побережья толпы, евда заметно покачал укоризненной головой – однако шума поднимать не стал и даже легко, только нам двоим, улыбнуся: дескать, Бог с вами, нахалы – нет у меня ни сил, ни желания изгонять вас из стала. Ходите и слушайте, если уж вам так хочется.
И мы ходили – целых полтора часа, что длилась экскурсия. Все было отработано, четко и выверено до последней минуты. Все делалось гидом в сотый, а возможно, и тысячный раз. Десять фраз на объект, полминуты на фотографирование, поднятая вверх рука – и вперед, о дамы и господа.
Как и всегда, слушали экскурсию и понимали, зачем они здесь находятся, всего несколько человек: худенький мужчина бухгалтерского вида, имевший при себе даже блокнот, так ни разу ему и не пригодившийся, и четыре предпенсионных дамы в очках и цветастых хламидах, по виду – типичные преподавательницы музыки.
Остальные напоминали стадо озадаченных овец, согнанных с привычного ппастбища и влекомых в неизвестность жестоким и чужим богом познавателного туризма. Группа растянулась безмозглой змеей.