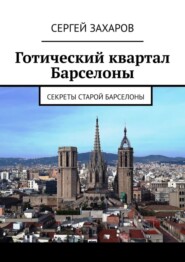По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каталонские повести. Новая проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Какое-то время я наблюдал пару бешеных и бешено скачущих его глах на уровне своих. Несколько раз он пытался ударить меня и даже попал, довольно чувствительно – парень он был жилистый и здоровый.
Когда дерешься, смотреть нужно в глаза, а бить в подбородок, и хорошо, когда кулак знает, где он, этот подбородок, находится. Мои кулаки еще помнили, как находить нужную точку: «опыт не пропьешь» – так говаривал в армии старшина Гриценя. Кулаки мои умели искать: раз, еще раз, еще и еще – глаза Саши Пушкина провалились и упали синхронно на пол, а я рванулся за ними. Какое-то время мы повозились на бледно-зеленом ковре: Пушкин был вцепист и силен, я же, набрав вес, сделался неповоротлив. В конце концов мне удалось мертво припечатать его руки к ковру и держать так.
– Скажи, что не будешь больше дергаться, и я сразу тебя отпущу, – тяжело дыша, попросил я его.
– Угу. Не буду. Больше. Дергаться, – рот его был полон тягучей алой слюной, мешавшей говорить: похоже, я попал раз-другой выше, чем следовало, и разбил ему губы. Впрочем, и моя скула набухала все более.
– Точно не будешь?
– Точно. Дергаться точно не буду, – подтвердил он, и я отпустил его, поднялся и, чуть задыхаясь, пошел к окну: за свежим холодным воздухом.
– Дергаться точно не буду, – еще раз сказал за спиной Пушкин. Он вскочил и был уже на ногах. – Ты постой там.
Он ушел из комнаты и загремел отчаянно металлом в кухонных ящиках.
– Дергаться точно не буду, – повторил еще раз он, вернувшись. – И ты не будешь. Потому что я тебя, сука, сейчас прирежу.
Я обернулся. В каждой руке у Пушкина было по ножу: в правой – злой и тяжелый охотничий, в левой – длинный и широкий мясницкий. Вот он и зашел на свою линию атаки, Саша Пушкин – атаки, которая для него закончится новым сроком, а для оппонента, то бишь, меня – как повезет.
Я особых иллюзий насчет везения своего не питал, и воообще: сделался совершенно пасмурен и спокоен. В очередной раз я устал бояться. Потому, может быть, что меня уже не однажды резали, и я хорошо помнил, как выглядит клинок в руке человека, который тебе – враг. Более того – я помнил даже, как выглядят его глаза, и знал, что они у всех одинаковы.
Что ж, если так – значит, так. Я уже заслужил все, что со мной еще не случилось. Я оплатил эти услуги заранее. Что будет – то и будет. А Маша ждет меня где-то во Вроцлаве – вот что нехорошо.
– Ну и режь, – сказал Пушкину я. – Режь, блять. И еще – сам ты сука! – и стал смотреть в бешеные, в совершенно теперь слепые и сизые его глаза. Смотрел и ждал, что будет – долго, долго – половину минуты, может быть, или даже всю минуту целиком – смотрел, молчал и ждал.
А потом упало на пол два раза: скучно и тяжело (охотничий нож, определил я) и красиво, с долгим стальным подзвоном (это мясницкий), Пушкин повернулся и пошел ко входной двери. Он ничего не говорил больше. Хлопнуло, отдалось дрожанием в стеклах – и я остался один.
– Вот и все, – сказал я себе. На душе было паршиво и жарко, как если бы я обидел ребенка или старика. И еще – тряслись сильно руки.
– Вот и все, – повторил я. – Пора на вокзал.
* * *
Это может показаться странным, парадоксальным даже, но когда все, к чему мы шли так долго – через обман, угрызения совести, украденное счастье, короткие встречи, мучительные, на отрыв живого мяса, разлуки, ожидание без конца, нервы, нервы, нервы, сомнения и страхи по всем и всяким поводам – когда все, что казалось невозможным, все-таки случилось и с Машей соединились – тогда-то и наступил самый критический момент в наших отношениях.
И все, черт бы взял меня, я. Не буду скрывать: переезжая к ней, туда, куда я переезжать не хотел, я таки ощущал, что иду на определенную жертву, и сознание жертвы этой добавляло мне веса в собственных глазах: как же, вошёл в положение любимой, бросил все, привычное и родное, и ухнул в неизвестность. Поступок? Поступок! Да практически подвиг! К тому же, и Маша не раз и не два мне давала понять, что эту мою «жертву» ценит безмерно.
Тогда, в силу душевной незрелости, мне было невдомек, что переезд мой – это вовсе не свершение, но лишь мизерная часть его, крохотное, в один робкий шажок, начало неизведанного пути, лишь пройдя который, можно будет говорить о каких-то там «поступках». Переехать – один миг, а вот закрепиться и найти своё место в чужой и враждебной реальности, и не сломаться, и не сорваться, и не спустить всех псов своего ущемлённого «я» на единственного, кто был со мной рядом: Машу – задача кропотливая, долгая и действительно трудная.
Конечно, я предпочёл бы, чтобы все случилось именно так, как я себе представлял вначале: вот он, я – жертвенный и великодушный пришелец: нырнул, помявшись, с трамплина своей родины в воды нового мира и, едва всплыл на поверхность, на тебе все и сразу: вспышки фотокамер, микрофоны жаждущих взять интервью репортеров, автографы, автографы, автографы, раздаваемые моей мокрой и мужественной рукой; цветы и гирлянды, и венок из пахучего лавра; и Дом Периньон фонтанами из массивных бутылей; и визг ошалевших фанаток, норовящих докоснуться меня, как главной святыни; и первое, разумеется, место на пьедестале всех пьедесталов, и, естественно вытекающим бонусом – призовой фонд и даруемое им пожизненное освобождение от всех насущных проблем…
Выяснилось, что все не совсем так. Выяснилось, что все совсем не так.
Я вынырнул посреди пустынной воды – повсюду, во все края горизонта. До того, надо сказать, я привык существовать на земле – как и всякое человекоподбное. Теперь меня ожидало выживание во враждебной стихии – к чему я оказался совершенно не готов. Рядом со мной держался на поверхности и пытался поддерживать меня один человек – Маша, по милости которой, как я тогда это себе представлял, я и угодил в водяную западню. Всю вину, как свойственно людям слабым, я быстро возложил на нее и принялся гнобить ее за это безжалостно и изощренно. Таким отвратительным образом, как кажется мне сейчас, я просто взимал с Маши плату за свою сомнительную, честно сказать, жертву.
…Память, память… Не любит память возвращаться в неприятные моменты: жмется робко у кромки берега и в воду ступать не спешит: мало ли какие опасности скрывает черная гладь воды? Память, боязливая память… Я толкаю ее в дрожащую спину: иди, иди, глупая, не бойся, они уже случились, уже есть и уже с тобой – все прошлые неприятности и кошмары…
О чем думал я вообще, кем и чем ощущал себя в мучительные первые недели и месяцы в новой стране? Каков он, я, в то непредсказанное время?
Во-первых, беспомощен. Вот, пожалуй, верное слово. Совершенно и упоительно беспомощен. Я был нелегалом, въехавшим в страну по туристической визе – и в две недели ее просрочившим. Все льготные условия легализации как раз с моим приездом окончательно упразднили. Пожениться, чтобы узаконить мое пребывание здесь, мы с Машей тоже не могли, потому что муж не спешил давать ей развод.
Нелегалов же на работу не брали уже давно – и по причине огромных штрафов, грозивших работодателям, и, что гораздо первичнее и важнее – из-за глобального отсутствия самих работ. Не было их, даже тяжелых и малооплачиваемых – ни для своих, ни для чужих. А ведь за трезвый год, проведенный мною дома до появления здесь, я привык работать и зарабатывать – и даже довольно неплохо, по меркам своей уникальной родины.
А тут на тебе – оказался в чужой стране, без языка, статуса, работы, денег и каких-бы то ни было ясных перспектив – и все потому, что Маша, видите ли, не пожелала жить там, где все это у меня было – или могло быть! Трудился бы себе, зарабатывал и обеспечивал нам существование… Но нет – ей непременно нужно было, чтобы я приехал сюда, в охваченную кризисом страну, сидел иждивенцем и страдал неврозами – а все потому, что Маша…
Да, да, всюду была Маша – исток и причина всей моей тогдашней неуместности, страдая от приступов которой, я начисто упускал из вида остальное, с нею связанное – то есть, все. Мне стыдно, безнадежно стыдно и сейчас – до дрожи в коленях, до белого жара в кончиках предательских ушей – когда вспоминаю, с какой сладкой ненавистью изводил я Машу попреками в своей неприкаянности и пустоте.
И надо знать Машу, чтобы понять, как больно ранило ее каждое мое слово, ведь формально, черт побери, так и было: я перебрался к ней только потому, что она не смогла или не захотела перебраться ко мне. На основании этой формальной истины, которая была ничем иным, как так любимой ее вторым мужем «почти правдой», я чувствовал за собою полное право тиранить Машу во всю свою подлую мощь.
Да, да, и это верно – в то время я был не только беспомощен, но ещё и безмерно и намеренно жесток. Справедливости ради должен добавить, что иногда жестокость моя была и неосознанной, как жестокость обычного зверя.
Помню, например, с какой гордостью ещё в скайп-время Маша демонстрировала мне нашу с ней спальню, устройством которой она занималась с превеликим удовольствием. Все, напоминавшее ей о прежних оковах супружества, было снесено на помойку. Она уточняла мои размеры, ездила покупать кровать, звонила мне и советовалась перед покупкой… Она раздобыла где-то изысканной красы и грубой стоимости бра, которые тоже непременно требовали обсуждения со мной и моего одобрения. Она отыскала в антикварной лавке удивительное круглое зеркало с оправой в виде бронзового, раскидавшего широко и смело лучи, солнышка, и хвалилась, что сторговала это чудо за смехотворную цену… И покрывало, и белье, и подушки, и дизайнерские изыски, на которые изобретательная Маша была мастерицей, на заново выкрашенных ею же стенах… С упоением и чувством предстоящего счастья Маша вила новое гнездо, и звала меня в это гнездо, и ждала меня в это гнездо – а что, черт побери меня, я?
Я провёл с ней в этом гнезде ровно две недели – и перебрался спать в кабинет. Да, во сне я на самом деле вёл себя агрессивно, к тому же, храпел и обладал воной привычкой по несколько разбив ночь просыпаться за ночь и уходить курить; да, порой мне нужно было проснуться и сесть записывать казавшиеся мне стоящими мысли – этими причинами, которые тоже были мерзкой «почти-правдой» я и объяснил Маше свой уход. На деле, как видится мне сейчас, я с блестящим отсутствием логики, вряд ли сам это осознавая, отстаивал своё священное право на одиночество – и даже в малой степени не понимал, какой обидой и болью отзовётся в Маше мой уход. Разумеется, она снесла это молча и старалась не подавать вида, что уязвлена в самую душу, а я тогда предпочитал быть слепым там, где мне это удобно.
Страдая, я все глубже уходил в себя, и если выбирался оттуда – то, главным образом, для того, чтобы заставить страдать и её. Как и всякий родившийся без кожи человек, Маша, при всей своей силе, была абсолютно беззащитна перед настоящей подлостью. А как ещё можно назвать истязание со стороны ближайшего человека – меня? Только подлостью, и никак иначе. Я и был подлецом – пусть признавать такое неприятно и сейчас.
Как только я понял, как глубоко ранят её мои нападки, я будто намеренно задался целью загнать её в гроб, занимаясь выяснением отношений часами. Я легко, в горячке перепалки, честил её распоследними словами, зная, что каждое из них побивает её смертным камнем.
Излившись матерной желчью, я сбавлял градус и продолжал истязание в режиме липкой непрерывности. Скрыться от настырного и занудно-агрессивного меня было невозможно. Поначалу Маша просто запиралась в той самой спальне, которую я навсегда осквернил своим бегством, и плакала. После она стала уходить из дому, надеясь, что в отсутствие ее я остыну быстрее. Часто так и бывало.
Успокоившись, я звонил ей, набирал до тех пор, пока она не брала трубку – и, после долгих пререканий, мы заключали новый мир протяженностью в два-три, много, четыре дня, по прошествии которых все повторялось.
С упорством инфернального стахановца я все более заглублялся в кровящую рану и, похоже, добурился до отметки, на которой пытка сделалась для Маши непереносимой. Как-то, во время очередной ссоры она просто выкатила на свет божий большой чёрной чемодан и предложила мне убираться. Убираться в ту самую страну, из которой я приехал, или любую другую страну, или куда угодно, да хоть на Луну – но убираться подальше и навсегда, чтобы дать тем самым ей, Маше, возможность протянуть на этом свете хотя бы еще несколько лет.
Первым делом я опешил: как круторогий баран, разогнавшийся в очередной раз, чтобы долбануть в ненавистную стену – и встретивший вместо неё пустоту. Вторым – испытал внезапное облегчение: ведь даже бараны, случается, устают долбить. К тому же, Маша предлагала мне то, о чем я и сам подумывал втихую все чаще.
Ну, не складывалось у нас здесь, не получалось ни черта, ничегошеньки не получалось, и все шло не так, и я ожидал совсем не того, а Маша, разумеется, и подавно! Казалось, все недавние любовные страсти происходили не с нами, но с чужими и совершенно незнакомыми нам людьми. Так зачем мучаться и мучить друг друга? Надо уезжать – и дело с концом! Тем более, что и Маша, очевидно, пришла к тому же выводу. Вот и славно, вот и решение. И я, определившись, принялся укладывать чемодан, а Маша, помню, помогала мне даже.
А потом, еще поостыв, я порассуждал немного в одиночестве.
Вспомнил, что из-за меня она порушила всю свою прежнюю жизнь. Прошла через месяцы ненавидимой ею лжи. Заслужила репутацию гулящей жены у большей части разномастного круга осевших в Барселоне родственников-знакомых-друзей. Тех самых, которых она же когда-то и помогала устроиться в заграничной жизни, пуская пожить у себя, пока они не встанут на ноги и не обзаведутся собственным углом – невзирая на ворчание и протесты недовольного перманентным присутствием посторонних мужа. Да, да, так и есть: большая часть разномастного круга прошла когда-то вереницей, один за другим, через гостеприимный портал ее квартиры, ставший для них первой человеческой улыбкой в холодном мире капитализма.
Эти люди были обязаны ей многим, но не спешили возвращать долги, хотя бы и простой человеческой благодарностью – а иного Маша и не требовала. Собственно, она не требовала и благодарности, по горькому жизненному опыту зная, что зверь это редкий и вымирающий. И поступала она так только потому, что не могла поступать иначе – в кодексе ее поведения иных вариантов прописано не было. Машиной добротой пользовались, как ступенью ракеты, отбрасывая ее потом за ненадобностью и начисто забывая.
Но когда Маша осуществила его, свой личный бунт – о ней вспомнили вдруг разом все – и так же разом обсудили, осудили и предали вечной анафеме. Из всей неблагодарной шайки «родственничков» отыскалось едва ли человек пять-шесть, преимущественно, молодого поколения, восхитившихся ее смелостью и вставших решительно на ее сторону – остальные вознегодовали и мигом отворотили от нее свои пуритански-постные лица.
Забавно, что «муж номер два», не сделавший для «родственничков» и тысячной доли того, что сделала Маша, напротив, в глазах их тут же обратился в мученика. Да, статус царя был утрачен им безвозвратно, но вскоре он убедился, что «мученик» – звание гораздо более приятное.
Мужа разнообразно и обильно жалели: дружно и наперебой, по одиночке и группами, эмоционально – по-женски, и сурово-сдержанно – по-мужски… Был период, когда он, подсевший на всеобщую эту жалость, как на наркотик, ходил по гостям, словно на работу, и упивался ею без меры и конца. Его жалели, его любили, ему выказывали все мыслимые проявления сочувствия…
Особенно он любил, когда жалеющие при этом втаптывали Машу в грязь – и ведь втаптывали: и по своей воле, и чтобы сделать ему приятное. Ей припоминали все: и прямоту, ее, и резкость, и умение врезать порой правду-матку незвирая на лица и обстоятельства – то есть, грехи для приличного общества наистрашнейшие. Не забывали и главный грех – измену, а поскольку ранее за Машей никогда такого даже в мизерной степени не водилось, все соглашались с версией мужа: Маша буйно спятила с ума и согрешила с дьяволом, проявив при том самую черную неблагодарность. Сатана, сатана овладел ею! Будь то век семнадцатый, муж легко добился бы сожжения Маши на костре и сам с удовольствием провел бы экзекуцию.
А пока он, возлегая на диванах – в каждых гостях его сразу и непременно укладывали на диван, опасаясь, что в середине своего плача он может не выдержать и пасть от переживаемого заново горя в глубокий обморок – принимал соболезнования, и в апогее этих жабьих утешений, напитанный ими, как вампир свежей кровью, из мученика возрастал до пророка и гласом грозным, вызывающим ледяную дрожь в позвоночнике, вещал: еще месяц, пусть два, и этот уголовник либо убьет ее, либо искалечит, либо просто натешится и выбросит, как ненужную ветошь – но в любом случае, скоро, скоро, попомните моё слово, грядет ее личный апокалипсис, и страдания ее будут ужасны, и страданиям её не будет конца!
Похоже, было, действительно было в этих его пророчествах что-то, внушающее священный ужас. Одно время они были чрезвычайно популярны – настолько, что «родственнички» выстраивались в очередь, стараяь заполучить мужа себе на вечер, а те, к кому он еще не пришел, даже чувствовали себя обделенными и обижались. И если бы он не свернул вскоре с пути истинного, пустившись в многократные эксперименты с «нежными и покладистыми», если бы он не начал менять своих новых и молодых спутниц жизни, как перчатки, скатившись в неприкрытый разврат с явным душком мстительного садизма, после чего с мученическим ореолом было покончено – он мог бы, пожалуй, сделать карьеру на поле сектантства. Да Бог с ним, с мужем – с Машей-то в любом случае ситуация была ясна: исчадие, изменница, изгой.
И пусть, заявляет Маша, ей на это плевать – я же вижу, что все не так: это ведь и ее «родственнички», это и ее разномастный круг, каким он ни был. А людей Маша, как я говорил уже, забывать не умела. Потеря? Потеря! И к потере этой напрямую причастен был я. А теперь мне оставалось только уехать, исполнив пророчество «номера второго» – и доставить ему, тем самым, глубокое моральное удовлетворение.