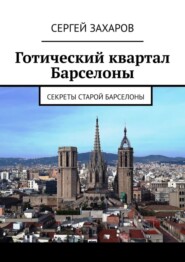По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Каталонские повести. Новая проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ты уж береги себя и поскорее выбирайся, и сразу напиши, ладно?» – мягко и немного забавно тревожилась она: словно я был агент под прикрытием, уходящий на героическое и смертельно опасное задание – впрочем, «смертельно опасное» имело все же отношение к паршивой действительности. Я «выбирался» – и первым делом писал ей: приятно было знать, что кто-то, где-то, пусть и за тридевять земель, тревожится о тебе.
А потом она позвонила – затребовала мой номер телефона и позвонила. Помню, я испугался тогда: в этом был некий выход за никем не озвученные, но все одно существующие пределы. Номер, тем не менее, я сообщил и ждал с легкой дрожью звонка.
– Значит, так, – сходу сказала она (я удивился, что голос её оказался ниже, чем я предполагал). – Я хочу издать книгу с твоими вещами. Тебя нужно печатать. Есть родственники и знакомые в Москве, которые помогут все организовать. От тебя ничего не нужно – кроме согласия. Деньги я вложу сама, а потом верну – после реализации тиража. Тираж небольшой, заработать на этом не получится – но нужно же с чего-то начинать. Эх, были бы деньги на хорошую рекламу, раскрутку – можно бы и ммного издать сразу. Но это не потянуть, а жаль… Зато у тебя в активе будет книга – это пригодится в дальнейшем. А теперь скажи – ты согласен?
Я не понимал, зачем ей это нужно. Я не любил никому быть обязанным. Я ценил свою – какую ни есть – независимость. Но, похоже, от меня никто ничего и не требовал. Разумеется, я был согласен.
Затем все продолжилось, как прежде, с одним, разве что, отличием: время от времени Маша стала звонить мне. Делалось это, как правило, с террасы: я хорошо слышал, что параллельно с разговором она курит, и еще, фоном, пробивался временами шум улицы. Иногда ее действительно низковатый голос, к которому я успел уже привыкнуть, начинал торопиться и звучал тогда особенно волнительно и глубоко.
– Ну ладно, ладно, – говорила быстро она. – Буду закругляться. Муж рядом ходит, а он у меня ревнивый.
Она улыбалась (разумеется, я не мог видеть этого, но знал, что она улыбается) а затем, скомкав парой резких сжатий нашу беседу, торопилась выбросить ее в корзину для бумаг – помню, положив трубку, я легонько обижался даже минут этак пять.
Муж, муж – ну и что, что муж? У нас ведь ничего не было с Машей и быть не может – с чего бы ему ревновать? Мы даже не виделись никогда – и никогда, скорее всего, не увидимся: смешно, честное слово! И в то же время было в этом нечто глубоко приятное, какая-то тайна, подобие ни к чему не ведущего флирта, приключения, вход в которое дозволен был только двоим – но, повторюсь, воспринималось все это, как безобидная игра.
Я сочинял, вел свои английские занятия, вечером в обязательном порядке мы обменивались с Машей десятком-другим электронных писем… Наступала пора – и я исчезал на положенное время запоя… Возвращаясь, я робко стучался Маше в почту – теперь мне каждый раз было почему-то неизъяснимо стыдно перед ней – и она тут же, при первой возможности звонила.
– Хочу убедиться, что ты действительно жив, – с легким смешком говорила она, но по голосу я понимал, как ей невесело, и мысленно материл себя распоследними словами, понимая, что это – из-за меня. Эх, какой же тварью был я тогда…
Дела с книгой, между тем, подвигались. Хорошо помню Машин декабрьский звонок.
– Ну вот, книга вышла и уже продается в магазинах, – сказала она. – Поздравляю! И еще: через неделю я снова буду в Москве – и давай-ка заеду к тебе и передам авторские экземпляры. Ты не против? Тогда сообщи адрес. Хотя… книги будут тяжелыми. Сможешь встретить меня на вокзале? Но адрес все равно сообщи, мало ли…
«Заехать к тебе» у нее прозвучало так, будто от Москвы до города, где я жил, было не семьсот километров, а семь. Противостоять напору Маши было невозможно. И снова я настораживался и внутренне подбирался (границы нарушались в очередной раз, а я все же служил в свое время пограничником и имел наработанные соответствующим образом рефлексы) – и сообщал ей адрес дыры, где в то время жил, и записывал старательно дату, время и номер поезда.
Происходило что-то необычное, что-то непонятное и новое, где все вершилось, главным образом, помимо меня – но ни поводов, ни намерений противиться этому новому у меня не было. Только бы не запой, только бы не запой, когда она приедет – стучало-пульсировало главным опасением. Только бы не запить и не потерять свое глупое лицо окончательно!
Разумеется, я запил.
* * *
Конечно же, я запил – за два дня до ее приезда.
За эти дни, а точнее, сутки (пил я круглосуточно и наотмашь, день и ночь вырождались в абстракцию, а время измерялось количеством выпитых бутылок), я, как водится, превратил худую и чистую обитель крайнего аскета – так мое жилище выглядело, когда я бывал трезв – в зловонную берлогу спятившего зверя. Я и был этим спятившим зверем, и остается только поражаться, что через сорок восемь часов после начала безумия я все еще помнил, что ко мне должна приехать Маша. Это более чем странно – обычно уже через полдня запоя сознание полностью меня оставляло, чтобы вернуться через дней десять, а то и две недели.
Тем не менее, я помнил, я сохранил на заблеванном, уставленном бутылками дрянного сорокаградусного пойла столе залитый неоднократно и влипший в поверхность блокнотный листок с искомой информацией, и с утра, проглотив полтора стакана водки (пились они безвкусной водою), кое-как, охая и стеная, уместил больное тело в заполненную до отказа ванну – отмокать. Там я успел несколько раз с риском утопления заснуть, но все же пробудился почтим вовремя. Бритье, как процесс, совершенно для пляшущих бесновато моих рук неосуществимый, я отмел сразу же – и потому, кое-как одевшись, выдвинулся на вокзал в окаемке двухдневной щетины.
Но что щетина – это пустяк с общей картиной упадка и разложения, какую являл тогда я. Маша, по словам ее, именно так и узнала меня: я показался ей самым несчастным и диким человеком не только на перроне, но и вообще на целой Земле. Ощущение дикости, вероятно, проистекало еще и из-за того, что ярился крепенький морозец, и бежавшая у меня из носу влага намерзла двумя сосулями, напоминавшими кабаньи клыки. Щетина, запойное говяжье лицо, ужасающие эти клыки, залепленный гноем взгляд записного безумца – что, кроме отвращения, мог вызвать я в Маше тогда?
Что до меня – выпитая перед выходом водка дала о себе знать, и потому момент нашей первой с ней встречи в моей памяти почти не уцелел. Почти – кое-что все-таки сохранилось: ощущение присутствия рядом со мною чистого, яркого, потустороннего (безусловно, европейская благополучная Маша явилась из принципиально иного мира, непомерно далекого от провинциальной алкогольно-уголовной среды последнего разбора, к какой принадлежал я) – да-да, потустороннего, и в то же время, как ни странно это прозвучит – безгранично родного, родней чего не бывает и не может быть вообще…
Да, так было: обезнервленное ядом тело отказывалось что-либо воспринимать, а вот ссохшиеся от долго бездействия остатки души ухватили её, эту близость, сразу же – ухватили, чтобы минуту спустя потерять: штормило в пропитом мозгу моем преизрядно. Будь я хоть немного прозорливее, или хотя бы на бутылку трезвее – я сразу знал бы: это оно, божье крыло, когда-то оставившее меня, а теперь, необоснованно и милосердно, снова берущее меня под защиту. Будь я прозорливее, будь я трезвее… Не был я – ни тем, ни другим.
И сейчас, в каталонской глуши, в свой утренний час вспоминая об этом – я ужом сковородным верчусь от стыда и не ищу себе оправдания. Раньше я никогда, за все наши годы, не касался этих воспоминаний – зная, должно быть, какими угрызениями это чревато. Эх, до чего мерзко все: я ведь даже лица Маши не запомнил в первую нашу встречу… Единственное, что осталось еще: тяжесть сплошь обмотанной скотчем картонной коробки, где лежали они: авторские экземпляры изданной ею книги. Моей книги, черт бы меня, подлеца, взял…
А что дальше? Дальше я могу констатировать основательный провал в памяти, за время которого таксист довез нас по моему адресу, а Маша, увидав сотверенный мною за гиблые дни гадюшник, справедливо рассудила, что отель – самая беспроигрышная и единственно возможная альтернатива.
В гостинице я пришел в себя – настолько, что, пока она была в душе, успел позаимствовать у нее в сумочке пару отличных купюр (где мой бумажник, я понятия не имел, да и не задвался такими вопросами), спуститься в бар, купить две водки и две вина и вернуться обратно. Вино я демонстративно уместил на стол, а водку самым подлым образом сокрыл в коридорном шкафу. Сейчас это назвали бы «политикой двойных стандартов», тогда же я просто объяснил себе свои собственные действия тем, что без водки все одно не обойдусь, но Машу расстраивать не хотелось бы. В любом случае, это была обычная для меня подлость, осознание которой самого факта ее не отменяло.
Когда Маша, в обертке снежного полотенца, вышла – и снова поймал я это ощущение абсолютной невозможности происходящего, попутно отметив, что в жизни она много красивее, чем на фото – в ванную отправился я. На этот раз я все же смог собраться и худо-бедно, потратив на это никак не менее получаса, осилил бритье. После я мыл, чистил, отскребал себя ещё полчаса, закончив контрастным душем – и, изучая в зеркале свою угрюмую жестковатую физиономию и все еще спортивное тело (спорту я отдал когда-то немало сил, в свободное от водки, разумеется, время), пришёл к выводу, что выгляжу почти нормально, насколько это вообще возможно на третий запойный день. «Нормально» означает, что походил я тогда на агрессивного кота, сильно изодранного в недавних стычках и подлатанного кое-как и наспех.
А дальше, дальше… Дальше было нежно, нежно и хорошо, и страстно, и хорошо, и ещё, ещё, ещё, и какое-то время я держался молодцом, я даже забыл про эту чёртову, запрятанную в шкафу за гладильной доской водку, и чувства, во всей своей изощренности, пусть и на краткое время, но вернулись ко мне, я владел сокровищем и знал, что владею им, и поражался лишь, какая белая, нежно-белая у нее кожа (почему белая, ведь она из зацелованной солнцем Испании?) – и повторялось все снова и снова, и почти без пауз, и мы вряд ли разговаривали, потому что в словах не было нужды, да и времени не было на какие-то там разговоры, ведь на следующий день она уезжала, и вообще: тогдашнее состояние своё я мог бы определить как длительное, беспрерывное и острое ощущения счастья, равного которому мне не доводилось еще знать в своей тёмной, как чулан, жизни…
…А потом я открыл глаза в убогой, провонявшей табаком и перегаром дыре и понял, что нахожусь у себя дома – и абсолютно один. Последнее, что удержала память – вино из высоких бокалов и теплое чудо Машиного тела – рядом с моим. Но я и без того отлично знал, как развивались события. Когда Маша уснула, я встал, прикончил вино и, закусывая каждую рюмку сигаретой, уговорил к середине ночи и водку. Силы у меня были уже не те, что в восемнадцать лет – и, проснувшись утром, Маша нашла меня, храпящего, в кресле – и в привычном алкогольном беспамятстве. Она собралась, вызвала такси, отвезла меня домой, с помощью сердобольного таксиста выгрузила в постель – и поехала на вокзал со странным чувством освобождения.
– Знаешь, я ведь уверена почему-то была, что так будет, – рассказывала после она. – Просто хотела убедиться. Увидеть, убедиться – и избавиться от этого дурацкого наваждения. Увидела, убедилась – и избавилась. У меня первый муж был такой же – почему я от него и сбежала. Но натерпеться успела всякого, и второй раз лезть в ту же реку – Боже упаси! Спасибо, на всю жизнь хватило. Вот знаешь, еду тогда в Москву – и радуюсь. Лечу в Барселону – и дождаться не могу, когда самолет сядет. В Барселоне солнце, тепло, близкое все и родное. Понять тлоько не могу, что же со мною было, но знаю: было, закончилось, прошло, и ничего больше не будет, и тебя я больше никогда не увижу, потому что не хочу и не нужно…
Маша, милая, вредная моя Маша! Ровно в том же был уверен и я – и, как ни странно, тоже испытывал облегчение. Выправившись после запоя, я и вообще мог бы поверить, что никакого твоего приезда и не было, и все просто привиделось мне в одном из цветных алкогольных снов, которые изредка, да, бывают приятными – если бы не книги, те самые полсотни авторских экземпляров, что ты привезла мне.
Дизайнер обложки постарался на славу и проявил хороший творческий вкус, разместив в центре окно, из какого глядел в упор на читателя пронзительный глаз, слепленный на самом деле из двух половинок – половинки женской и половинки мужской. Однако понималось это с секундной задержкой – и на меня лично, помню, произвело сильное впечатление. Что же, книга вышла замечательной, но на наших с тобой отношениях был поставлен, не сомневался я, крест.
Через две недели ты позвонила, была ровна, весела и словом даже не обмолвилась о свинье, к которой приезжала недавно. Ты просто обходила эту тему стороной – как будто никакого приезда ко мне и не было вовсе. И я охотно тебе подыгрывал: в отношениях наших я не видел никакой, ни малейшей даже перспективы, и считал по-своему замечательным, что все закончилось, не успев, по сути, начаться. В противном случае это могло бы привести к самым разным, но точно уж никому не нужным неприятностям, а возможно, и страданиям. Ухабистая жизнь ожесточила меня, не спорю – но страданий я намеренно никому не желал, Маша, и менее всего – тебе. Тогда же я знал, что мы больше никогда не увидимся, и серое, с зеленоватой ноткой тоски, знание это несло спокойствие.
Я знал, ты знала, мы знали… Все и все знали – целых два месяца.
А потом я снова запил – самым отчаянным и губительным винтом за всю «карьеру» – и всякое знание оказалось ложным.
* * *
В тот раз – думаю, ему назначено было стать финальным – все шло даже хуже обычного.
Пил я в последние, истекающие мои месяцы в глухую и жестокую одиночку, все контакты с внешним миром перекрывая на время пития напрочь. Когда подступал запой, а я чуял его приход безошибочно, я обзванивал, если успевал, клиентов (на жизнь, как уже было сказано, я зарабатывал частными уроками английского языка), сообщал им о недомогании – все, собственно, прекрасно знали, в чем оно заключается, и если терпели меня, то только за преподавательские достоинства, которое, видимо, у меня все же имелись – после затаривался в ближайшем гастрономе водкой, отключал все телефоны, зашторивал плотно окна и уходил в нее – в свою убогую, на краю бесславной гибели, нирвану.
Единственное, чем я позволял себе скрашивать сознательную пьяную одинокость – битловская музыка, тихонько и волшебно звучавшая где-то на периферии процесса и напоминавшая мне, пока я был в сознании, что есть в жизни и прекрасное что-то, а не только прах и тлен.
Держать при себе живых людей, собутыльников, в пьяно-безумные дни я опасался, и неспроста: в глубоком хмелю я становился буен, непредсказуем и до бескрайности жесток – и попросту не хотел, очнувшись, обнаружить в своей квартире свежий труп человека, повинного только в том, что его угораздило связаться и пить со мной.
Но в тот раз… В тот раз я вливал в себя водку и закусывал ее чтением книги: той самой, с глазом сдвоенным в середине обложки, с мрачной моей фотографией на оборотной стороне… Я проглатывал страницы, написанные другим мною, изданные милой Машей и странным образом соединившие нас на краткий миг во времени и пространстве – чтобы тут же вновь развести.
Странно, как странно – бормотал про себя я. Какие все же удивительные вещи происходят на свете! Ты запускаешь в безграничное пространство мира, повсюду и в никуда, кровящую частицу своей глупой, никому не нужной души – и находится, самым непостижимым чудом, человек, которому, она оказывается, нужна. А потом этот человек, поверивший зачем-то в тебя, делает для тебя невозможное, мчится к тебе за тридевять земель и четыре тысячи километров – а у тебя не находится для него и пяти трезвых минут. Совсем неласково, совсем паскудно было у меня на душе, и единичность, намеренная моя отделенность от всего живого сделалась на какой-то миг нестерпимой…
А потом я сидел на скамье у подъезда, и снег облизывал голову мне мокрым и теплым языком, и под черной рспахнутой кожей куртки я прятал ее, чтобы не замочить, прятал и жал накрепко к себе: свою и Машину книгу – как билет на упущенный рейс, как вещдок того необычайно важного, что не случилось, но могло бы случиться – будь я иным.
И еще позже – снега уже не было, но были люди – я страстно и сбивчиво пытался рассказать им, случайным знакомцам, какая прекрасная есть женщина, Маша, и какой подлец я, и тыкал неверным пальцем в свою фотографию, и принимал восторги и поздравления, и выпивал с кем-то отдельно и со всеми разом, и подписывал экземпяр, и поднимался в квартиру за другим – такая вот спонтанная презентация под открытым небом, и штук десять книг я тогда все же роздал и пометил своими чудными каракулями, и дурная боль, я помню это хорошо, отступила, но после закончилось все – и она взялась за меня с новой силой.
Снова я был один, снова я пил один, и ночь загоняла меня в пятый угол.
Вообще, пить отшельником, в особенности так, как пил я – занятие довольно опасное: случись что, некому и скорую будет вызвать. Раньше, однако, обходилось: внутри меня худо-бедно, но продолжал фунционировать тот самый, питающийся от инстинкта самосохранения счетчик, который всегда упреждает – стоп! Выпьешь еще рюмку сейчас – сдохнешь, не сомневайся. Сдохнешь, потому что превышена будет твоя персональная предельная концентрация яда в крови. Вот выпей-выпей – и умри, тварь! А умирать, доложу вам, никому неохота – ни алкоголику, ни наркоману, ни самому распоследнему бандиту и убийце. Не хотелось умирать и мне – как бы не казнил я себя в посталкогольном раскаянии.
Но в тот раз… В тот раз все шло против правил, и он сломался, должно быть навсегда – мой внутренний ограничитель. Я перестал знать меру, перестал контролировать себя окончательно – я пил ее, водку, взахлеб, с яростью, ненавистью и тоской, как будто задался целью уничтожить все спиртное на земле; я падал, вставал и продолжал снова, чтобы снова упасть; я как будто вел глупый и заведомо проигранный бой с несравненно более сильным противником – и к середине запоя, неожиданно для себя, извел весь свой алкогольный запас.
Такого не случалось раньше никогда: при моем-то стаже и опыте я давно уже четко определил классическую дозу: сорок восемь бутылок, плюс-минус две, и потому закупал сразу два с половиной ящика – чтобы уж хватило наверняка. Обычно хватало – но не в тот раз.
Это должно бы насторожить – но тормоза мои, повторюсь, окончательно перестали держать. Остаться без водки в самом разгаре – дело недопустимое. Псом увечным я выполз на трех конечностях в магазин – и, едва отойдя от подъезда, потерял сознание. Умереть мне не дали. Сердобольные прохожие вызвали скорую, два дня я провел в реанимации – и при первой же возможности оттуда сбежал, чтобы продолжить.
Я и продолжил – на меньших оборотах, но с прежней неостановимостью – и через три закономерных дня подступил, полагаю, к белому краю. Не было, не осталось уже сил терпеть, как поносят они меня последними словами, низвергают в прах, с грязью мешают и золой…
«Они» – те, кто наведывался ко мне все чаще, когда я запивал. Знаю точно, что их было двое: маленький, с круглой, стриженной коротко головой, походившей на улыбчивый шар для боулинга, обросший внезапно густой шерстью – и другой, повыше, пошире и погрубее. Тот, что повыше, никогда не улыбался, и особенно мне был неприятен, а лица его я совершенно запомнить не мог: знаю, что носил он черные густые усы военнного образца – вот, пожалуй, и все.