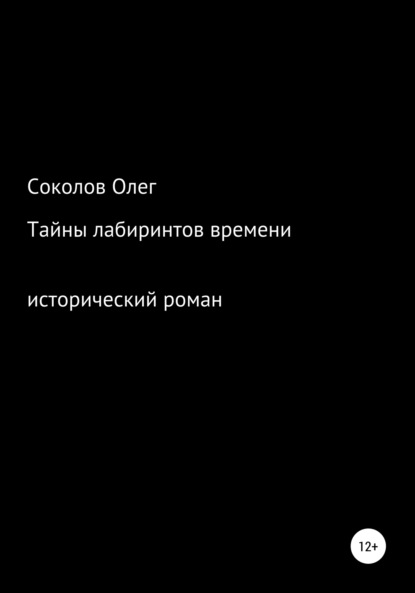По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайны лабиринтов времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Посля каждой байки казаки, как и полагается, прикладывались к чарке. Явор и Онопко вспомнили и о письме к казакам князя русского:
«Не можно ли казакам на Черном море или Сечи Запорожской, мимо Очакова и Кинбурна, пройти лодками по морю Черному и оттудова в Дунай или хотя бы в Аккерман.
На каждой лодке иметь по писарю и записывать все ветра – сильны ли оные были или тихи? С какой стороны дули? Часто ли меняли направление? В каком расстоянии от крепостей, на глаз, от тех крепостей проходили? Какая глубина была? Плыли ли лодки сии близко от берега? Если да, то записывать, как выглядят те берега, где оные крутые и близко ли от оных стоят глуби, а где стоят отмели и косы. Как далеки оные от берегов? Где и какие селения, города и деревни? Где лодки ночлег имели и с какою выгодой для моряков, и с какими предосторожностями, и не было ли на них какого покушения, и чем оно отвращено?
В поощрении же казаков мне угодно пожаловать со своей стороны: тем, которые с первой лодкой пойдут – тысячу рублей, с другой – пятьсот, а остальным – триста рублей награждения на всех, сколько будет казаков в той экспедиции!».
– Выполнили мы тогда пожелание князя русского. А кто, господари казаки, ко мне в ватагу пойдет? Курень свой у моря поставлю, недалеко от станицы вашей. А как за зипунами пойдем, как злато-серебро добудем в походах славных, так и станицу расширим, и станет у нас главной – казачья станица Причерноморья.
У валунов расположились дозорные атамана Явора, сам атаман находился на своем бусе, а на палубе судна валялись казаки в одних шароварах, соорудив из паруса навес от солнца, они спали после обеда. Один из дозорных подал знак на корабль – это был молодой парень с небольшим чубом, называемым казаками-оселедцем, он прокричал:
– К атаману!
Явор вышел на палубу буса в шелковой красной рубахе и синих широких шароварах, перепоясанный кушаком, ноги были босы, а на боку висела турецкая сабля в серебряных ножнах и с рукоятью, инкрустированной слоновой костью.
– Кто меня звал, хлопцы?
– Прислали к вам толмача, – кивнул казак в сторону писаря, обряженного в черную рясу. – По-персидски, на татарском, по-турецки и по-англицке балакает.
– Греческий разумеешь, писарь? – спросил Явор.
– Владею, атаман.
– Был у меня писарь и толмач, но украл из общего котла, ограбил брата казака, и пришлось его засунуть в мешок с камнями, да в море бросить. Так и ушел на дно, не получив прощения. Виселицу строить некогда было, да и лень казакам потеть ради вора.
Писарь уставился на пушку, стоящую на палубе буса.
– Чего таращишься – это наша любимая гармата Маруся. Красавица поможет проломить стены Измаила. Откуда пришел к нам, ученая душа?
– Бежал от помещика.
– Небось, разбогатеть мечтаешь и вернуться, или просто на вольную жизнь потянуло?
– Хто ж разбогатеть не мечтает? Помещик несколько деревень в крепостном рабстве держит, сам на серебре ест, из золотых чаш пьет, а вот ведь тоже разбогатеть мечтает. Я еще хочу, на примере великих путешественников и завоевателей, которые имели при себе писарей ученых, чтобы те записывали их подвиги и поражения, служить тебе, атаман. Я хочу тоже писать летопись казаков для потомков.
– Э! Брось! Разбогатеть – вот чего хочешь, все остальное, может, и правда, да только кажется мне, что главное – это разбогатеть.
Ты что ж, думаешь, что мы караваны грабим? Так-то разбойные казаки делают или лихие людишки.
Так и не мечтай, персов, татар и турок воевать будем, а если останешься, то не только записывать будешь, а и сражаться – иначе нельзя. У нас повар, писарь, атаман, лоцман – все воины, сто чертей мне в глотку, ледащих не держим, в бою все равны.
Ныне воровских казаков на Черном море нету – перевелись. Был тут атаман один: и своих, и чужих грабил, а награбленное в пещере хранить стал да по катакомбам рассовывал, чтоб, значит, никто не взял награбленное. Много охотников за теми сокровищами под землю ушло, да никто пока еще не вернулся оттудова. Атаман же, когда ватагу воровскую побили, ушел в катакомбы за золотом своим и згинул. До сих пор плутает по энтим подземным лабиринтам его грешная, окаянная душа, и кого встретит, того душит до смерти, не отдает награбленного, дюже жадный он.
Ну, чего смотришь? Он из пещер не выходит, в море не плещется, не боись. Это я к тому, что на дурня разбогатеть не получится, понял?!
– Понял, атаман.
– Ну, раз понял, тогда, бурсак, и я хочу понять, что ты за птица, а ну-ка, расскажи о себе, а я послухаю.
– Случилося то весною, в травне, когда бурсаков отпустили по домивкам на лето. Я собрал быстренько свою котомку – и отправился на Привоз, где договорился с чумаками, что собирались ехать в Бахмут за солью, что возьмут меня с собою в обоз. Когда в знойном мареве степи показалась украина Дикого поля, всколыхнувшаяся серебристо-голубыми метелками ковылей, я спрыгнул с телеги, поклонился в пояс чумакам и зашагал прямо по ковылям к речке Нижняя Крынка, на берегу которой раскинулся мой родной курень. До речки было еще верст сто, но что это расстояние для молодых ног, устремившихся к родному порогу! Бодро шагал я до сумерек, лишь единожды остановившись у ручья в сумрачном овраге и съев, припасенный в дорогу, шмат сала с сочной луковицей.
Однако, проплутав в скальном массиве, коих немало раскидано по степи, понял вдруг, что заблудился. Дорога, по которой я шел в полном одиночестве, привела меня в скальник и затерялась в каменных россыпях.
Я стал искать кого-нибудь, кто мог бы указать мне нужное направление, но вокруг были лишь скалы и малые поляны меж ними, поросшие чахлыми, высушенными степным солнцем акациями.
Обессилев в бесполезных блуканиях, я опустился на большой камень и задумался над тем, как мне придется провести надвигающуюся ночь. Глядя на долину, расстилавшуюся вперед при последних лучах заходящего солнца, я вдруг заметил на холме маленькую хатенку, сложенную из плоских камней, которые иногда встречаются в степи и служат одновременно и жилищем, и молельней решившим удалиться от мира отшельникам.
Издали хатка казалась полуразрушенной и необитаемой, но, когда подошел к ее замшелым стенам, навстречу мне из отверстия, бывшего когда-то дверью, вышел очень древний старец с грязными седыми волосами, клочьями свисавшими с его затылка, в лохмотьях, издававших ужасное зловоние.
Будучи почти уже состоявшимся священником, я, разумеется, имел дело с самыми разными людьми и попадал во всякие ситуации, порою весьма рискованные. Поэтому брезгливость была не в моей натуре. Да и перспектива провести ночь на холодной земле, казалась для меня гораздо менее привлекательной, чем иметь хотя бы такую крышу над головой. Вот почему, приблизившись к старику, я поклонился и сказал:
– Здравствуй, святой отец. Да ниспошлет тебе Господь беспечальные лета. Не окажешь ли ты мне любезность – и не доставишь ли радость, позволив разделить с тобой на эту ночь твой кров?
Старец вдруг вытянул вперед руку с длинными, отвратительными, хищно загнутыми ногтями и пророкотал неожиданно мощным утробным голосом:
– Прочь отсюда, бурсак! Плевал я на все обычаи гостеприимства! Здесь не какой-нибудь постоялый двор, чтобы терпеть всякий праздношатающийся сброд!
– Ответить на это было нечего, я повернулся и побрел прочь, но едва сделал несколько шагов, как низкий голос уже мягче произнес: – Ступай в долину. Там, на краю, ты найдешь хутор, и, если тебе повезет, получишь там все необходимое. Я оглянулся, но старика не увидел. Тот словно растворился в воздухе. Так я направил свой путь в указанном направлении – и действительно очень скоро увидел маленький хуторок, который, как я мог разглядеть в сгустившихся сумерках, состоял не более чем из дюжины домов.
На краю хутора я встретил какого-то парубка, который проводил меня к старосте. Тот тепло приветствовал меня, ввел в свою хату и предложил отдохнуть. В большой горнице я увидел человек двадцать селян, но не успел как следует все разглядеть, поскольку староста его, сразу же, провел меня в маленькую отдельную комнатку, и девушки принесли еду и постель. Немного поев, я почувствовал, как сильно устал, и, несмотря на довольно ранний час, лег спать и тут же уснул.
Меня разбудили громкий плач и причитания, доносившиеся из горницы. Я приподнял голову с подушки и прислушался. В этот момент дверь отворилась, и появился хозяин с зажженной свечой. Он поклонился и сказал тихим голосом:
– Добродию, я староста этого хутора, как вы знаете. Но стал я им лишь несколько часов назад – вследствие печального события. Ибо еще вчера я был только старший сын. А сегодня, незадолго до вашего прихода, мой отец умер. Вы выглядели таким уставшим, что я не решился обременять вас своими заботами, прежде чем дам вам отдых и пищу. Те люди, которых вы видели – все родня моя и жители хутора. Они собрались здесь, чтобы почтить память умершего, но теперь они уйдут в соседнюю деревню, которая находится примерно в полутора верстах отсюда.
Я должен уведомить вас, что по нашему обычаю никто не может оставаться в хуторе на ночь, ежели днем кто-то умер. Мы приносим умершему поминальную еду, читаем молитвы, а затем оставляем тело в одиночестве. Дело в том, что в доме, где находится покойник, ночью всегда происходят какие-то странные вещи, поэтому мы думаем, что для вас будет лучше уйти вместе с нами. В соседней деревне мы найдем достойное место для ночлега.
– Сказав это, староста замялся, переминаясь с ноги на ногу. И вдруг продолжил: – Но все же, поскольку вы – особа духовного сана, то вам, пожалуй, не страшны демоны и злые духи. Если это так, и вы не боитесь остаться один на один с покойным, то, пожалуйста, располагайте этим домом до нашего возвращения утром. Все же, я хочу повторить, что никто из нас не осмелится задержаться здесь на ночь.
– Чрезвычайно благодарен вам за приглашение на ночлег и за вашу искреннюю заботу, – ответил я. – И мне очень жаль, что вы не сообщили о смерти отца сразу, когда я только постучался к вам вечером. Я действительно устал, но, поверьте, не настолько, чтобы это могло помешать мне выполнить свой долг священника. Скажи вы мне об этом заранее, я бы успел совершить обряды до вашего ухода. Но раз так уж случилось, я прочитаю молитвы после того, как вы все покинете хутор, а я останусь уже возле покойного до утра. Я не знаю, что вы имели в виду, говоря о странных вещах, которые происходят здесь по ночам, но смею вас уверить, что я не боюсь ни демонов, ни злых духов, ни чего бы то ни было еще, поэтому прошу вас не беспокоиться за меня.
После этих заверений мой хозяин, похоже, успокоился и горячо поблагодарил меня за обряды, которые мне предстояло совершить над телом усопшего. Подошли и другие родственники. Все еще раз поблагодарили меня за добрые намерения. Наконец хозяин сказал:
– Что ж, мы уходим. А вы, добрый человек, пожалуйста, будьте осторожны. И если все же станется чего-либо необычайное за время нашего отсутствия, мы просим вас обо всем нам, потом рассказать. И вот на хуторе не осталось никого, кроме меня, да хуторских собак и другой какой животины селянской. Стоя в дверях, я долго смотрел в ночь, во тьме которой, цепочкой растянувшись, мерцали факелы уходящих селян. Скоро они скрылись из виду, и я вернулся в горницу, где лежало тело умершего. Здесь была зажжена маленькая керосиновая лампа, в красноватом колеблющемся свете которой можно было различить неприхотливую поминальную пищу в простой глиняной посуде и в корзинках из ивового прута.
Я шепотом прочел молитвы, затем исполнил все полагающиеся церемонии, после чего погрузился в раздумья. Так, в размышлениях, я провел несколько спокойных часов. Когда же тишина ночи, казалось, достигла полной глубины, в комнате вдруг резко запахло серой, и из плотного, задушного воздуха горницы беззвучно образовался упырь.
Он был громадной величины и неопределенной, постоянно меняющейся формы. В тот же момент я почувствовал, что у меня нет сил: ни пошевелиться, ни заговорить, ни даже закрыть глаза. И вот я с содроганием увидел, как это нечто подняло в воздух мертвое тело чудовищными лапами с длинными когтями и пожрало его с хрустом быстрее, чем кот проглатывает мышь. Начав с головы, оно жрало все подряд: волосы, кости и даже саван, которым было накрыто тело.
Покончив с усопшим, упырь набросился на поминальную еду – и в мгновение ока съел все вместе с посудой и корзинками. После этой богомерзкой трапезы он вдруг исчез, так же бесшумно и таинственно, как и появился.
Наутро, когда селяне сочли, что можно больше ничего не опасаться, они вернулись на хутор. Я их приветствовал, стоя на пороге дома старосты. Селяне с ужасом глядели на мое изможденное лицо, и по одному проходили в горницу, где вчера оставили покойника. Однако никто из пришедших не выразил ни малейшего удивления тому, что тело и поминальная пища исчезли. Хозяин дома вошел последним и обратился ко мне:
– Достопочтенный господин, мы все очень беспокоились за вас. И мы рады видеть вас живым и невредимым, хотя, как я полагаю, вам этой ночью довелось увидеть то, что разумный человек не в силах был бы перенесть. Поверьте, ежели бы это было возможно, мы были бы рады остаться с вами. Но обычай наших предков далеких, как я уже говорил вам прошлым вечером, обязывает нас покидать наши дома после того, как к кому-либо из хуторян приходит смерть. Если бы этот обычай был нарушен, некое огромное несчастье должно было бы обрушиться на всех нас. Возвращаясь утром, мы находим, что покойник и поминальная пища исчезают за время нашего отсутствия. Так было всегда. Но теперь вы, пожалуй, знаете, отчего так происходит, и не откажетесь поведать нам об этом.
Я, который все еще был в глубоком потрясении от виденного этой ночью, рассказал селянам, как бесшумно появился упырь неясных очертаний и огромных размеров, как он пожрал труп и поминальную пищу. И никто не показался мне удивленным услышанным рассказом. Сам же хозяин дома заметил:
– То, что вы нам сообщили, добродию, в точности согласуется с тем, о чем рассказывали нам деды наши. И так ведется с древних времен.