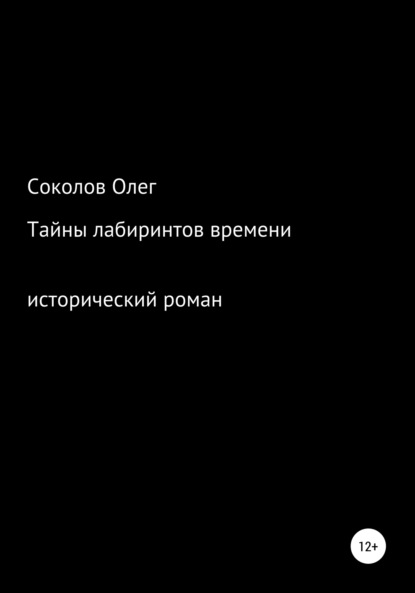По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайны лабиринтов времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обернули казаки головы – глядь, около тына Онопко спыть. Да так уважно слушаеть их разговор, тилькы хропака давит такого, шо чертям тошно. Казаки давай будить Онопко криками, способными лишить дикого коня мужества и сил, а как проснулся Онопко, так давай, милостиво – в знак согласия головой кивать. Потим Онопко протэр очи, усмехнулся и молвит:
– Барабан тот, казаки добрые, висить на мосту, по которому я часто с отцом своим покойным хаживал. Как-то раз остановилися мы, глянули с моста вниз, а мост столь высокий, что тот буйвол, про которого вы изволили рассказывать, показался нам совсем крошечным, не более блохи. Ствол камыша, равный горам Карпатским, был не длиннее волоска, а дерево, макушка которого в небо упиралася, казалось, панове, не выше гриба. Тут отец мой загляделся, голова у его закружилася, да и полетел он вниз. Три года оплакивал я отца. Когда же снял траур, пошел опять на тот мост, помянуть батька, смотрю – а он, бедолаха, все еще вниз летит.
Услыхали это казаки, аж рты поразевали – языками ворочають, а сказать ничего не могут. Тилькы дед со смеху давится:
– Байки ваши тилькы уши и греють вам, а вот послухайте, як сокольничего князя наказав казак. Расскажу я вам, браты, как лося из лесу тащил.
Одного разу, казаки, пошел я в лес – зайца там какого заполевать, бо в хате уже ничего съестного не оставалося. Зарядил рушницу, пороху да свинца в карманы засыпал, да и отправился на охоту.
Долго ли, коротко ли ходил – а нет дичины. Тут уже и смеркаться стало. Что ж делать казаку? Надо до хаты возвертаться. А только слышу вдруг – кто-то скрозь кусты продирается терновы. Да, так ломится, что только треск стоит. Ну, думаю, мабуть, медведь. Бо, кто ж еще сможет такой шум учинить? Быстро вытряхнул я из ствола рушницы дробленый свинец, что на зайца был приготовлен – и ну швыдче в ствол пулю забивать! Только забил, да шомполом прибил заряд, как, глядь, выбредает из кустов лось. Да, такой здоровенный, что рогами снег с верхушек сосенок сбиваеть.
Э-э, обрадовался я, да тута мясца, почитай, на увесь курень хватить. И приготовился стрелять.
Да, только не подумал я, как смогу всю энтую тушу, пудов эдак на пару десятков, из лесу в курень-то доставить. Да, ништо, решил, ужо доставлю как-нибудь. Подождал – и дождался, когда лось на поляну чисту выйдеть, да и пальнул пулею. Враз лось свалился, как подкошенный, бо я прямо в сердце ему запалил-то.
Только-только я к добыче своей шагнул, а уж из лесу выходять сокольничий князя, да с ним два егеря.
– А што, казак, – сокольничий молвит, – имеется ли у тебя, скажем, папирец, охоту в княжеском лесу дозволяющий? Мы ж, – говорит, – по твоим следам от самого куреня твово идем, чтоб тебя на горячем-то впоймать.
Лап-лап по карманам штанов своих широченных, на какие двенадцать аршин сукна ушло, и кожушок свой задрипанный облапил, и дажеть в шапку казацку заглянул на всяк случай.
– А нетути, – ответствую, – при себе папирца-то. Забув, мабуть, в хате. Бо шибко быстро сбирался, – говорю.
– Што жа, – говорит сокольничий, – ведем тогда мы тебя с добычею твоею к князю. А уж как он решит с тобою поступить, то одному ему ведомо. А только мыслю я так, што за лося-то из лесу княжьего получишь ты батогов. Эдак с полсотни.
– А князю подарок на стол рождественский – лось-то.
Эх, кой-как они вчетвером лося-то до куреня дотащили. Паром изошли все. Да около хаты моей и остановилися передохнуть. Бо уже никаких сил не было дальше тушу лосину-то переть.
– Эй, добри люди, – вдруг я себя по макушке хлопаю. – Да, вот же папирец-то, охоту дозволяющий! Мне его тиун-то княжий ишо в прошлом годе дал! Мы же с им други великие! Хочь его самого поспрошайте, друга мово сердешнаго! Вишь ты, заложил за подклад шапки-то, да и позабыл про это! – И бумажку сокольничему протягиваю.
Прочитал сокольничий дозвол-то княжий на охоту, так лицо у его сделалося, ровно буряк лиловое. Едва кондратий его не хватил от злости-то!
– А, штоб тебя! – проскрипел горлом простуженным, да пересохшим. – Пошли отседова! – рукою егерям махнул.
Вот так, казаки, я того лося-то до куреня и доставил. А как разделили того лося промеж семьями казацкими, так кажинной семье по десять фунтов лосятины-то и досталося. А мне, как охотнику удачливому, цельну задню ногу-то и определили. Ну, а хохоту, да надсмешков над сокольничим княжим с егерями, которые лося-то до самой моей хаты дотащили, так до самого Рождества хватило.
– А я расскажу, – вмешался Подопригора, – как тиуна княжеского гавкать научил. Э-э, добрые казачки, да кто ж в Сичи не слыхал о таком казаке, как я, да об моих проделках! Да, мабуть, и не только в Сичи. Обо мне рассказывают даже в Пологах, а может, ещё подальше – да, хоть бы и в самой Виннице! За что ж такая слава казаку, спросите? Ведь я-то ни богат, ни знатен. Всего-то и было у меня имущества, что весёлая шутка, да едкое словцо. Весёлые шутки я раздаривал казакам, да беднякам каким, чтобы им полегче жилося. Ну, а острые словечки, да едкие насмешки приберегал на другой случай.
Вот однажды шёл я мимо княжеского поля. Смотрю – десять служек княжьих надрываются вокруг огромного камня. Пыхтят, а сдвинуть не могут. Чуть в стороне стоит толстый тиун, управитель княжий, в тёмно-красном кунтуше из тонкой шерсти. Стоит себе, да, знай, покрикиваеть на служек: «Шевелитесь, лентяи! Вправо берите! Влево толкайте».
Служки – те уже еле на ногах держатся, а камень – ни туды ни сюды.
Тут я и подумал: «Э, да тута, бачу – у толстого тиуна для меня хорошая еда приготовлена! Вовремя я поспел». Подошёл я к тиуну и спрашиваю:
– Куды ж этот камень собрался переезжать? Неужто у князя камней мало, что энтот на новое место назначили?
Тута тиун на себя важный вид напустил, губу оттопырил и ответствует:
– Ума в тебе не больше, чем в энтом камне. Не видишь разве, что глыба лежит на ячменном поле? Вот я и велел унести её подальше. И, подумай, до чего измучился – битый час ужо здеся простоял, взмок увесь от напруги, а эти бездельники и на муравьиный шаг камень не сдвинули.
– А я бы этот камешек и один на спине унёс.
– Так унеси! – тиун говорит.
– Э, нет! – отвечаю. – Сперва схожу до дому, да пообедаю. Я завсегда стараюся перед работой поесть, а то после работы брюхо такой платы требует, что моему карману расплатиться не под силу.
«Нельзя же казака отпускать, – подумал тиун. – Уйдет – не вернется».
– Зачем тебе домой ходить? – говорит. – У нас на кухне столько еды – и на тебя хватит.
А только меня и не пришлося долго уговаривать. Привёл меня тиун на княжеску кухню, где стояли медные котлы с кипящей водой, и усадил рядом с собой на скамейку. Да и приказал служкам приготовить угощение. Один служка отломил большой кусок кулебяки с капустою, другой тем временем кинул в котел пшено промытое, да туда же – соль и масло. Забулькало в котле, да так смачно от его запахло, что у меня слюнки потекли. А третий служка принёс шкварки с цибулею, на сковородке поджаренные, да и закинул тож в котел.
Матинко ридна! У меня до того, уж как два дни маковой росинки во рту не державшего, едва обморок не приключился от того запаха, что с котла вышел.
Зачерпнул тута служка с котла кулешу, да и подал с поклоном тиуну и его гостю – мне, значит. Тут, конешное дело, я достал свою ложку из-за голенища чобота, да и принялся за еду. Ох, и знатно же я поел! За вчерашний день ел, ибо вчера не довелося пообедать. За сегодняшний ел – это уж как полагается. И за завтрашний день поел – на всяк случай. А пообедамши, отправилися оба на поле.
Я подошел к камню и говорю тиуну:
– Ну-ка, взвали ты мне его на спину – мне самому не с руки. – Тиун попробовал приподнять камень, да куды там – камень раз в пять больше его самого. А я покрикиваю: – Пошевеливайся! Вправо бери! Влево толкай!
Весь взопрел тиун с натуги, да только камень – ни с места.
– Эх, ты, слабосильный! – говорю. – И ведь прошу тебя об сущем пустяке – всего только взвалить камень мне на спину. А уж унести его с поля – моя забота. Ну, раз не можешь, что ж, ничего не поделаешь. Сам виноват.
С этими словами я и ушел. Узнали о его проделке в Сичи, и в соседних маетках княжьих. Целую неделю все смеялися. Все, кроме тиуна.
– Шелудивая собака! Сын паршивой собаки! – кричал он, смекнув, как провёл я его.
– Ах, вот как! – сказал я, прослышав об этом. – Собаку по лаю узнают. А только я, пока ещё, не лаял, а вот толстяк-тиун у меня залает.
И я зашагал в усадьбу княжеску.
Едва тиун завидел меня, как уже весь покраснел от злости. Такого ж колеру стал, как и его кунтуш. Но я протянул вперёд обе руки в знак приветствия и заговорил:
– Мудрый сперва выслушает, потом решит. Глупый сначала сделает, потом начнёт раздумывать. А ты, тиун, по всей округе запорожской прославился мудростью.
Тута возгордился тиун, нос к небу задрал, складки кунтуша на толстом брюхе расправил, да и кивает милостиво головой – говори, мол. А я продолжаю:
– Не даёт мне покоя, пан тиун, что угощение я у тебя съел, а отработать – не отработал. Есть у меня знатный подарок для тебя. Молви одно слово – мигом доставлю.
– А какой подарок? – спросил тиун, который больше всего на свете любил получать подарки на дармовщину-то.
– Собака, – ответствую. – Да, какая собака! Можешь всех своих стражников послать княжески поля пахать, потому как она одна – всех их заменит. Как почует чужого, так и загавчит «ку-ку, ку-ку».
– Эх, ты, поросячий хвост! – говорит тиун. – Какая же собака лает «ку-ку, ку-ку! Хорошая собака лает «гав, гав, гав-гав!».
– Что ж, – говорю, – придётся пойти спросить у людей, кто правильней гавчит – я или ты. А, уж кто правильно гавчит, тот и есть собака. Спохватился тут тиун, да поздно. Уж весь княжий двор от смеху животы надрывает. С тех пор он – даже имени моего боялся.