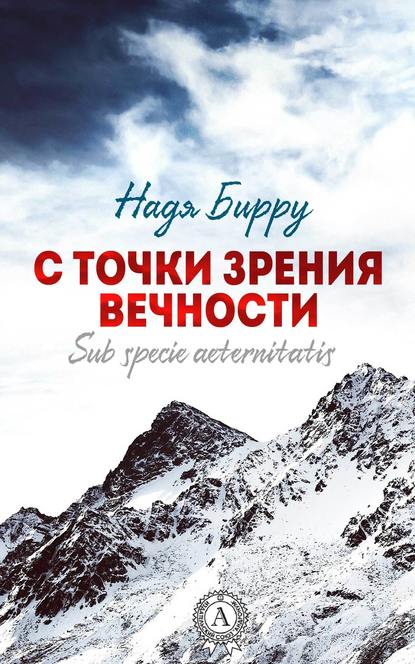По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С точки зрения вечности. Sub specie aeternitatis
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, да, – ответил он после короткой паузы.
Катя смотрела на него с непонятной улыбкой.
– Что ты имеешь в виду? – не выдержал он.
– Я так и думала, что ты не знаешь. Володя уезжает в научную экспедицию то ли на год, то ли ещё дольше, на север. Марина всё бросила и собралась с ним. Как только её не отговаривали, но разве её переубедишь?
Должен покаяться, как я стал «двойным» агентом. Мне всегда нравилась Катя. Сначала как лучшая Маринкина подруга. Потом я к ней привык, привык к её мягкому обхождению, привык видеть её рядом с Маринкой. Поле свадьбы она, как и большинство женщин, стала ещё более женственной и милой. В Васеньке своём она души не чаяла, и я был рад, что он попал в хорошие и заботливые руки, и заметно изменился к лучшему. Дома у них было хорошо, уютно, всегда вкусно пахло кулинарными снадобьями.
После того первого визита из-за Маринки я потом приехал ещё уже по своей собственной инициативе, тем более, что в первый визит Катя меня ни о чём не спрашивала – я успокоился и потерял бдительность. Во второй приезд она угощала меня Наполеоном, который таял во рту. Я уплетал за обе щеки и расхваливал хозяйку, а Василий добродушно подтрунивал надо мной. Потом вдруг Катя вспомнила, что у неё закончилась мука, и отправила Василия в магазин. Я тоже начал собираться, но она предложила ещё чайку с Наполеоном, и против Наполеона я не устоял. Пока пил, она расспрашивала меня об учёбе и как-то незаметно начала расспрашивать о Маринке – как она поживает, часто ли мы видимся и вдруг:
– Поговаривают, что Василий был увлечён Мариной, да?
Я аж подавился. Закашлялся, думал, отстанет. Но она, мягко постукивая меня по спине, продолжала:
– Тоже мне новость. Ну, ясно, что Марина нравится тем, кто с ней сталкивается. Мне, например, тоже. Ну, и что, если она нравилась и Василию? Женился-то он на мне! Правильно?
Я кивнул, набив рот пирогом и выжидая, чем всё это закончится.
– Мне ужасно жаль, что она наслушалась тоже этих разговоров, и теперь не приходит. Пусть бы она бывала здесь. Зачем мне надо, что бы они виделись где-то? А тут – всё при мне, всё у меня на глазах, глядишь, и привыкли бы оба, и подружились. Правильно?
– Умная ты, Катерина, женщина, – похвалил я.
– Да.
– И готовишь вкусно.
– Вот именно. Как было бы хорошо, Серёжа, если бы следующий раз вы пришли вместе. Ну, чего она дичится? Я уже по ней соскучилась!
Я посмотрел на Катю, и мне в голову пришла простая мысль.
– А почему бы тебе самой не съездить к ней. Это ж совсем рядом?
Она как-то недовольно поджала губы и пояснила:
– Василий к ней со мной не поедет, а одной, без него, мне ехать никуда не хочется.
Ага, значит, она хочет, чтобы Марина непременно увидела их вместе, подумал я.
Тут вернулся Василий, и мы заговорили о другом.
Об этом разговоре я не сказал Маринке ни слова. Я и так знал прекрасно, что ни со мной, ни без меня к Резниковым она не поедет, а за лишние разговоры не на ту тему я могу на время потерять её расположение. Но и Катя не сдавалась. В следующий мой приезд она улучила момент и сказала мне:
– Скажи ей, что я знаю.
– Что ты знаешь? – уставился я на неё.
– Всё!
– От кого?
– От него!
На дальнейшие расспросы я не отваживался, а она добавила:
– Если она не придёт, я буду считать, что она в чём-то виновата. Надо похоронить прошлое и спокойно жить дальше. Можешь ты её привезти к нам?
– Как? В мешке? Она сюда не хочет. У неё сейчас своих хлопот полон рот.
И я рассказал Кате о предстоящем Маринкином отъезде, намеченном на начало марта. По-моему, она восприняла это известие с облегчением. А на дне рождения она улучила минутку и попросила меня, чтобы я позвонил после того, как Марина сядет в поезд. Вот я и позвонил.
Глава девятая. Исповедь супермена
Откуда пришла эта уверенность: я всегда знал. Нет, мне не кажется, не кажется. Почему моя память, опуская массу других фактов и событий, так скрупулезно хранит всё, связанное с ней? И с самого начала. Объяснение одно: я всегда знал. Глядя на её тонкую длинную шею, хрупкие кисти рук, стриженный мальчишеский затылок, я ощущал жалость и какую-то непонятную тревогу, словно чувствовал: всё в ней слишком хорошо и в то же время слишком непрочно, беззащитно. Это закончится чем-то роковым.
Ладно, Маринка уехала от нас, и жизнь пошла своим чередом. Мы собирались вместе по праздникам, веселились, мечтали о предстоящих сборах и восхождениях. Конечно, нам её не хватало, особенно первое время. Но, как это ни парадоксально, с её отъездом секция наша вновь окрепла: успокоился Юрка, почти сразу же к нам вернулся Василий, пришла молодёжь. Мы стали вполне взрослыми, обзавелись семьями, на наши плечи легли новые заботы. Быт усложнился. Мне кажется, что вслух мы о ней даже не вспоминали.
До следующей встречи с Мариной прошло пять долгих, ничем не примечательных лет. В самое первое время я получил от неё несколько писем, ещё из Питера. Это было что-то невероятное, подобное взрыву в горах. Они прямо-таки дышали и бились в руках. Чтение заканчивалось для меня тем, что я становился страшно нервным, мне хотелось куда-то бежать, срочно что-то делать. Я как будто получал порцию стихийной, неуправляемой энергии, которую мне некуда было приложить. После её писем меня каждый раз мучила бессонница, да и днём я ходил, как после угара – границы реального мира становились настолько зыбкими и расплывчатыми, что, если бы, например, какой-нибудь кошара, перебегая дорогу, остановился бы и спросил: «Как делишки, друг Серёга?», я бы ответил: «Да так себе, друг» – и пошёл бы дальше, и не удивился бы. Я не мог, совершенно не мог ей отвечать. Писать банальные, дежурные фразы?.. Поток её писем неожиданно иссяк (позже я узнал, что это было одно из условий Володиного эксперимента: никакого сообщения с внешним миром). Я снова стал спать спокойно. И почти перестал вспоминать о ней.
Из этой новой жизни (без Маринки) я мало что помню – так, в общем и целом, но нет яркости и чёткости… Окончил институт, женился на Елене, остался на кафедре, потом ушёл в НИИ, потом на завод, где больше платили. Нам с Еленой дали квартиру, родилась дочка, потом вторая, нужны были деньги, жить хотелось не хуже других. Ездил на сборы, хотя не так часто, как прежде. Альпинизм – жестокая штука, как, впрочем, и любое настоящее увлечение, – требует всего человека, а если не так – отторгает его. Именно это, хотя и очень постепенно, случилось и со мной.
Миша почти не бывал в Москве – работал инструктором в лагерях. Юрка, хотя и женился на Аллочке Жураевой и нарожал с нею четверых детей, во всём остальном остался прежним. Сейчас он уже мастер спорта международного класса с массой прочих почётных титулов. Лёня Красовский уехал по распределению, и след его оборвался где-то в Киевской области. Максим Рудюков забросил физику и подался в переводчики, разъезжает по заграницам, не женат. Паша Разин работает в том же НИИ, из которого я ушёл. Получив несколько серьёзных травм, с альпинизмом решил завязать и долго не бывал в горах, но после всей этой трагической истории с Памирским восхождением опять стал ездить в лагеря и на сборы с жаждой большей, чем в юности. Когда я его спросил: «Зачем оно тебе?», он ответил просто: «Я тоскую». Ещё позже эта тоска привела его к Кате. Самая свежая новость: они собираются пожениться.
О Васином увлечении стихами мы все, конечно, знали, нравилось его слушать, но как-то особо значения не придавали, да он и сам не воспринимал себя всерьёз, казалось, он просто дурачился. К нам на тренировки стали приходить молодые ребята отнюдь не спортивного вида – тонкие, худосочные, с заоблачными глазами – приходили специально, чтобы послушать Резникова. Он частенько являлся на тренировки с гитарой, в конце, в перерывах садился на матах в уголке и что-то пел. Я даже не прислушивался, мне всё, что он пел (то, что я слышал), казалось, во-первых, слишком сентиментальным, а во-вторых, необъяснимо, неоправданно трагическим. Я не мог понять: откуда? Почему? И если я в то время пытался иногда всерьёз обратить внимание на его пение, то оно меня подспудно раздражало – я не мог (или не хотел) вслушиваться, вдумываться. Теперь я понимаю, что это просто было мне не по силам… как и Маринкины письма. Потом я как-то стороной узнал, что Василий выступает в институте перед студентами. Пошёл, послушал – и обалдел. Короче, я вдруг понял, какие мы все близорукие – настоящее дурачьё. Но нет, не скажу, чтобы я тогда, слушая его песни, так прямо и прозрел. Наоборот, недоумевал: «Чего человек мается? Откуда при такой счастливой жизни такая тоска?» И пел ведь он исключительно о своих печалях – с детской откровенностью, но это так брало за душу, что после первого концерта, на котором я побывал, я неделю ходил, как чумной. Это теперь, постфактум, я могу сопоставлять, анализировать, и всё кажется мне яснее ясного. Я просто удивляюсь: человек так открыто, без всяких аллегорий, у всех на глазах кричит о своей боли, а мы считали, что это просто чудесные стихи или голос у него такой особый… И как-то вышло, что до того последнего лета мы все даже не осознавали… масштаба, что ли? Для нас он так и оставался в доску своим Василием Резниковым, любимцем публики. Вместе с тем постепенно и как-то незаметно для нас он становился известным. Катя была ему хорошей женой. Я какое-то время, пока не женился, продолжал ещё часто бывать у них, но Катя всякий раз пыталась улучить момент и заводила разговоры о Маринке, принималась расспрашивать… В конце концов, мне это надоело, и я прекратил свои визиты. Те же самые маневры она поначалу пыталась проделывать и с Еленой, но как-то у них вообще не пошло. Словом, дружить семьями мы не стали.
Как-то раз на одном из импровизированных концертов Василия в конце тренировки, я оказался рядом с Аней Буланич, то есть Пироговой. Я о чём-то думал, не слушал, что там Василий «бренчал», и вдруг Аня сказала:
– Ты замечаешь, какие у него грустные глаза?
– Да?
– Смотрю на него и боюсь: вот-вот заплачет. И сама, глядя на его, реву как дура.
Я был очень удивлён, заметив, что у неё по щекам и впрямь текут слёзы. От кого-то, но вот именно от Ани я как-то не ожидал. Я попытался понять, о чём он поёт, но он сидел далеко, а пел негромко. И тут Аня процедила сквозь зубы:
– Стерва она всё-таки.
– Кто? – спросил я меланхолично.
– Да Золотилова ваша.
Я даже рот открыл. Аня произнесла это с такой яростью, точно Маринка только что вышла из этого зала или была где-то поблизости. Я даже не старался скрыть недоумение, и Аня, заметив это, пояснила:
– Я вас, мужиков, неплохо изучила: спите с той, что рядом, а тоскуете по той, что далеко… У Юрки дочка родилась после двух сыновей. Как назвал? Мари-ноч-ка!.. Сдурел. Завёл ящик в столе, куда жене строго-настрого запретил совать свой нос. Она его боится, слушается. А я сунула! И что – фотки её, всякая дребедень, даже её драные варежки… И этот весь тоской исходит. Одного никак не пойму, чего вы в ней нашли, а? – и Аня до обидного пристально уставилась на меня.
Я только хмыкал, чтобы продемонстрировать интерес к теме, но ничего не отвечал, потому что Аня такая женщина, с которой лучше не вступать в пререкания, но во всём соглашаться. Этот разговор снова дал толчок моим воспоминаниям, они становились всё ярче и ярче, а окружающий мир побледнел и исчез, словно туман. Я опять затосковал по Маринке. Что-то переполняло меня, мне надо было как-то от этого избавиться. Пожалуй, к тому времени относятся мои первые робкие попытки всё осмыслить и кое-что записать.
Вдруг, спустя четыре года после прощания, получил от неё письмо – простое и совсем коротенькое, о том, что они с Володей живы-здоровы и вернулись в Ленинград. Ещё какое-то время спустя стороной узнал, что у Марины открывается первая персональная выставка (всего при её жизни их было две, на второй я удосужился побывать, но об этом позже). И – звонок Володи о том, что он едет в Москву в командировку.