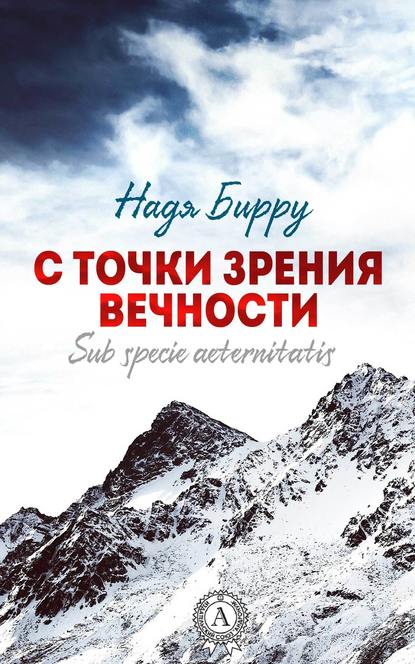По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С точки зрения вечности. Sub specie aeternitatis
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Плохо мне, Серёжа, жить.
Слова её ничего не прояснили, а взгляд просил: «Пойми!» Так просил, что мне расхотелось прикидываться бодрячком.
– С Володей что-нибудь? – спросил я.
Она отрицательно покачала головой, опустила глаза и занялась исключительно приготовлением чаепития: что-то доставала, переставляла, резала.
– Так что?.. С кем?
Я, возможно, шёл напролом. Не знаю, мне стало вдруг так её жалко. Между прочим, она довольно редко называла меня просто Серёжа. Чаще были какие-нибудь ласкательно-ругательные клички, ну, Серёжкой звала. К этому я привык. А вот когда называла просто Серёжей, всегда замечал и странно: моё собственное имя, произнесённое ею, всегда меня трогало.
На мой вопрос она чуть слышно вздохнула и скрылась где-то у меня за спиной, а кухонька тесная, не развернуться – мне, во всяком случае. Глупое положение: то ли считать разговор законченным – на эту тему, то ли… Вдруг она положила мне ладошку на плечо и сказала:
– Мы очень давно не виделись… Я ничего о нём не знаю.
Я сразу понял, о ком она. На одну секунду во мне промелькнуло мстительное желание спросить её этак невозмутимо: «С Володей? Разве он не приезжает?» Но это тут же прошло.
– Я тоже его давно не видел, мы же защищаемся на разных кафедрах, – как можно естественней поддержал я. – Хочешь, я к нему съезжу? Катя меня уже несколько раз приглашала.
Я вдруг испугался своих слов, но она – ничего, подвинула мне чашку с кипятком и варенье.
– Пей, хочешь с сахаром, хочешь с вареньем. Сделать тебе бутерброд? Видишь, я теперь богатая. Кушай, кушай, Серёжа…
Я уходил, преисполненный решимостью выполнить обещание как можно скорее, но в тот день ехать в Солнечногорск с визитом было уже поздно, на следующий день тоже что-то помешало. Словом, я поехал к Василию не раньше, чем через неделю. Я и сам-то виделся с Василием считанные разы. Кроме «Привет. – Привет. Как дела?» да о предстоящей защите мы больше ни о чём не говорили, хотя то поручение, которое дала мне в своё время Маринка, и которое имело такие далеко идущие последствия в его жизни, стояло между нами. Я чувствовал, что и он помнит об этом. Это и сближало где-то подспудно, и – ставило заслон. Так что мне в определённом смысле было даже как-то неловко вдруг заявиться, хотя Катя действительно несколько раз и очень настойчиво звала меня. Но и это было нехорошо – я предчувствовал, что неспроста она желает меня заполучить, – для дачи показаний, а я их давать не собирался.
И всё-таки я пошёл.
Открыл мне Катин отец, сказал: «О!» – он вообще с юмором был мужчина, – и закричал: «Молодёжь, к вам пришёл бо-ольшой человек!» Сам он был едва выше моего плеча. Из комнаты, которая находилась прямо перед дверью, вышел Василий в клетчатой рубашке и в шортах. Он очень искусно скрыл удивление, так что, если б я именно удивления ни ожидал, то и вовсе бы ничего не заметил.
– Вася, кто? – послышался с кухни Катин голос. – У меня тут блины горят.
– Это я, – сказал я. Она узнала по голосу.
– Серёжа? Вот и отлично! Ты очень вовремя. Идите сюда. Сейчас будете есть блинчики с творогом.
– А я? – спросил вездесущий Катин папа.
– Витя, но мы же идём в кино, – напомнила, появляясь в прихожей, Валентина Сергеевна. – Здравствуйте, Серёжа. Как хорошо, что вы зашли. Они сами никуда не ходят – в гости, я имею в виду. А мы как раз уходим.
Пока Катя хлопотала на кухне, мы с Василием сидели в комнате. И странно: с первой же минуты мы внимательно приглядывались друг к другу, как после долгой разлуки. Да, мы несколько минут сидели, уставясь друг на друга. Василий первый не выдержал – усмехнулся и отвёл взгляд. Я, как ни старался, не мог отыскать в нём никаких внешних перемен, разве что держался он спокойно, с достоинством, чего раньше за ним не водилось. Но во взгляде, хотя он старательно прятал это вглубь, я успел разглядеть жадное любопытство ко мне – не ко мне, как к таковому, а ко мне, как к человеку «оттуда».
Молчание стало слишком многозначительным, и мы заговорили о том, о сём.
Мало-помалу Василий оживился. Он всегда говорил оживлённо, горячо, с юмором, если уж брался говорить. А то мог просто слушать, улыбаясь как бы невзначай и пощипывать при этом струны гитары. Позже я узнал, что именно так, на людях, под чужие разговоры, к нему приходили стихи. Это была какая-то особая форма сосредоточенности, когда он мог одновременно и слушать вас, и находиться где-то очень далеко, блуждая по улицам своей памяти. Боюсь, что я был слишком пристрастным наблюдателем, но его оживление показалось мне несколько наигранным, а когда он замолкал, отбросив улыбку, то казался уставшим, как будто не языком работал, а ворочал тяжёлые камни. Случалось, что, сбившись и потеряв нить разговора, он на той же приподнятой ноте продолжал говорить совсем о другом… Когда это произошло в очередной раз, я не выдержал и сказал:
– Ты здорово переменился, старик.
– Нет, – откликнулся он, нисколько не удивившись и как бы разом успокоившись. – Я просто теперь кое-что понял… То, что рано или поздно понимают все.
– Что же?
Признаться, я действовал как диверсант, воспользовавшись его расслабленностью.
Василию, особенно в последующие годы, была присуща хорошая мужска жёсткость или, лучше сказать, твёрдость по отношению к себе и тем окружающим, от которых ему было что-то нужно, даже когда он дурачился, а может, тогда-то и больше всего… Вернее, его дурашливость была одним из проявлений этого качества, которое, на мой взгляд, во многом помогло ему пробить дорогу. Ведь всё же за тридцать с небольшим лет он успел столько, сколько многие не успевают за всю жизнь. А тут он размяк. А я не преминул этим воспользоваться. Но разве он не понимал, вернее, разве он не мог предположить, что после я могу пересказать всё кое-где, а?
Он ответил по Лермонтову:
– А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая штука.
– Ну, – запротестовал я., – тебе ли впадать в уныние! Ты – молодожен, без пяти минут выпускник престижного ВУЗа…
– А я никуда и не впадаю, я просто констатиру-ю. Понятно?
Я кивнул, но изобразив на лице понимание и сочувствие, подкинул коварный вопрос:
– А может, всё пройдёт, перемелется – мука будет.
Ох, как ему не понравилось! Взгляд похолодел, бровь вскинулась вверх.
– А всё уже прошло. Вот именно, в том-то и дело, что всё уже прошло…
Он усмехнулся, но опять не справился с собой и впал в задумчивость, теребя струны гитары, которая издавала жалобные и тревожащие душу звуки. В этот момент мне показалось, что ему совершенно безразлично, какие выводы я сделаю. Неожиданно он запел негромким и очень приятным голосом. Это была одна из песен Высоцкого, но – на сочинённый Василием мотив:
Приходит время – каждый человек
Свои печали забывает,
А моя печать, как белый снег,
Не тает и не тает.
Не тает она летом
В полуденный зной,
Видно печаль эту
Мне век носить с собой.
– Странно, – продолжал он, прикрыв ладонью обиженно зазвеневшие струны, – осталось то, что всегда казалось мне главным. Отошло то, что мешало этому главному… должен был остаться самый стержень, а я завис в пустоте… Между прочим, какая хитра эта поговорка про мельницу: мукА – мУка…
Искренность всегда вызывала во мне ответную реакцию; в душе я уже смеялся над собой – все мои «хитрости» и «коварство» оказались ненужными. Выходило, в сущности, очень просто: человек ничего не скрывал, потому что скрывать было нечего – всё перемололось – вышла мУка. Мне стало от души жаль Ваську. А он уже снова пел. На этот раз гитара звучала лихо и отрывисто, и в глазах у него зажёгся знакомый шальной блеск. Да, хотя и для меня одного, но пел он здорово. Я до сих пор помню эту песню, которую слышал в его исполнении лишь однажды.
Эх, какое золотое было времечко,
Эх, как стучали мысли-то по темечку,
Эх, мне бы только сунуть ногу в стремечко,
Эх, мне бы ускакать с тобою, девочка.
Эх, девочка, девочка,
Потерять тебя
Оказалось легче, чем найти,
Эх, девочка, девочка,
Видно зря ты, девочка,
Встала у меня на пути!