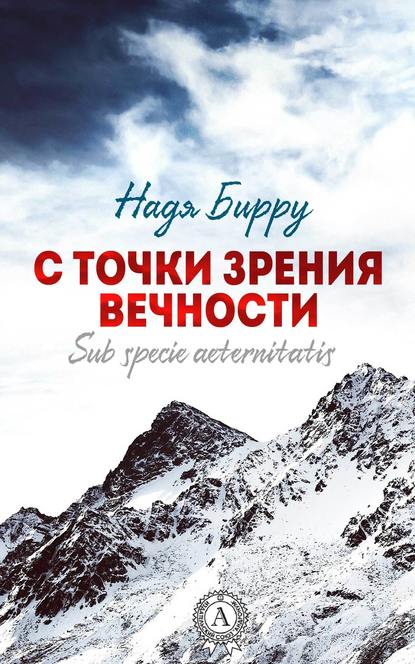По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
С точки зрения вечности. Sub specie aeternitatis
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А чьи портреты ты видел?
– Катин… Воскресенского… И, знаешь, правда, что она видит всё как-то иначе, потому что внешнее сходство поразительное, но ты как будто заново открываешь для себя этих людей. Иногда мне даже кажется, что портреты интереснее оригинала, что у них есть какая-то своя тайна жизнь.
– А Юркин?
– Ишь, запомнил! Нет, Юркиного не видел и не знаю, есть ли такой.
– А автопортрет?
– Нет, отдельно не видел, но на некоторых картинах мелькает силуэт, похожий на неё.
Володя опять задумался.
– Ну и что? О чём это тебе говорит? – теребил его Василий. – Я думаю, она же не всё вывешивает на стену, что-то остаётся там, где-нибудь, не знаю, в шкафу или под кроватью.
– Вот именно. Это тоже показательно. Хотелось бы увидеть и вторую часть. Не могу поверить, что у неё нет автопортрета… О чём это мне говорит? Это подтверждает мои наблюдения: она кажется очень открытой – этакий стопроцентный экстраверт…
– Да!
– Что «да»? На самом деле всё наоборот. Она создаёт некий образ самой себя – для общего пользования, так сказать, а себя настоящую прячет и скрывает очень тщательно. Допросить бы этого Воскресенского!
– Ну, у тебя и выраженьица! Допросить!
– А к нему по-другому не подберёшься. Разве ты не понимаешь, какого человека она себе выбрала в друзья? Этот, если что и знает, будет молчать до конца… а как Катя?
– Катя тоже партизанка. Как я ни пытался, из неё тоже много не выудишь. Одно-два слова и – меняем тему. Но Катя и сама по себе интересная личность.
– Не сомневаюсь.
– И красивая… Не совсем, правда, в моём вкусе, но тебе бы, я думаю, понравилась: длинные русые волосы, огромные глаза с ресницами на полкилометра, носит разные такие юбочки, блузочки, всё шуршит и шевелится, и мелькает. Такая тургеневская барышня. Добрая, гостеприимная… Я иногда думаю, что для роли жены трудно найти что-либо более подходящее. К тому же умная, голова работает на отлично, всё всегда в порядке, всё в срок и при этом она остаётся всегда в тени…
– Да, в тени… Это верно.
– Что?
– Ничего. Я думаю.
– Странно… Иногда я думаю, что я должен был бы полюбить её, а вместо этого…
Спокойный до этого Володя, неожиданно разгорячился. Он внимательно посмотрел на Василия, как врач на больного, которому необходимо поставить диагноз, и начал:
– Люди придумали себе кучу обязанностей по отношению друг к другу, которые нас только связывают и мешают непосредственности наших чувств. Потом – стрессы, неврозы и – в гроб раньше времени. «Должен чувствовать», что может быть нелепей! Должен – это и есть должен, при чём здесь чувства. А уж если я чувствую – я никому ничего не должен. Я прав?
– Наверное, – вяло согласился Василий. – Я об этом не думал.
– Но ты так жил!
– А ты? Ты разве не подчиняешься этим обязанностям наравне со всеми?
– Я подчиняюсь только собственным умозаключениям, – резко возразил Володя.
– Железобетон.
– Высшей марки.
– Володька, разве ты был таким? – жалобно, точно напрашиваясь на утешения, спросил Василий. Володя усмехнулся, подумав про себя: «Как ты любишь повторять: я не ребёнок, я не мальчик!.. Посмотрел бы ты сейчас на себя в зеркало». Почему-то эта детскость вызывала в нём сейчас не снисхождение, а желание ударить. Пусть очнётся, а не то, оторвавшись от своего луга с бабочками, выйдет на шоссе, где мчатся машины, и… Думал так, а вслух произнёс:
– Ну, для этого стоило много потрудиться: жизни, людям, а в основном – мне самому.
– А стоило ли?
– Не люблю риторических вопросов! Я есть такой, какой я есть, и крепко держу в руках всё, что со мной происходит. Чем ты недоволен?
– О, нет, напротив. Я в восхищении. Наверное, я просто от тебя отвык.
– Ты просто перестал верить мне.
– А разве я тебе когда-нибудь верил?
В глазах Резникова заплясали шальные искры. В этот момент сверкнула первая молния, и вслед за тем раздался мощнейший раскат грома. Внизу послышался девичий визг. Друзья едва успели добежать до лагеря, как началась гроза, и шквальный ливень обрушился на землю.
После обеда парило так, что, несмотря на ясное небо и безветрие, предчувствовался дождь. Да, дождь предчувствовался, но такая гроза! Нас, возвращавшихся с дискотеки, она застала на полпути. Молния вспыхивала ярчайше, озаряя неспокойную поверхность моря и пустынный берег, и тут же следовали потрясающие раскаты грома. Казалось, на землю обрушился тайфун. Девчонки визжали, дождь хлестал точно плетью, и худо бы нам пришлось, если бы по невероятному везению на нашем пути не попался навес. Заметив его при очередной вспышке молнии, мы дружно бросились туда. Пришлось изрядно потесниться. От наших мокрых тел шёл пар, гром гремел над самой головой, а порывы ветра были таким мощными, что мы даже не завидовали тем, кто остался в лагере. Лена оказалась рядом со мной, не просто рядом – в этой тесноте нас прижали друг к другу так, что, при всём желании (которого у меня, естественно, не было) я не смог бы отодвинутся.
– Да-а, дела, – протянул я, притворно вздыхая, – влипли…
Она молча взглянула на меня и мелко-мелко задрожала.
– Ты чего?
– З-замёрзла, – прошептала она, склоняя сою голову мне на плечо. Странно, но волос у неё были совсем сухие и такие непривычно жёсткие, с непослушными завитками, а плечи узкие и покатые. И слова, которые я так страшился и жаждал произнести, вдруг сами сорвались с языка, просто-таки скатились, как капли дождя с кончиков её волос:
– Я люблю тебя, Лен… Я так к тебе… привязался. Просто даже не знаю, что делать.
Она тихонечко рассмеялась вся, а губы – только чуть-чуть, и глаза у неё при этом были такие лукавые, как тогда, в первый раз, в палатке. Лукавые и немного влажные.
– И я к тебе привязалась, – сказала она просто. – Ты только обними меня покрепче.
В эту ночь Марине опять не спалось. Тщетно она вертелась с боку на бок – сна не было, а вот неотвязные мысли-воспоминания, мысли-чувства так переполняли её, что ей казалось: нет, она не выдержит, сейчас взорвётся – просто взорвется и всё!
Точно склеенная вкруговую плёнка прокручивалась перед глазами, и везде – он, он – с самого начала и до нынешнего дня, иногда – Катя, ещё реже – Юрка. Как хорошо, оказывается, она всё помнила! Он поехал вместо Юрки, вместо… Надо же, как она раньше об этом не подумала! А теперь в этом ей открылся какой-то зловещий смысл.
В юности она дружила со многими мальчишками, но они именно обходились дружбой. Многим из них она нравилась и, наверняка, в тайне они мечтали о большем, но всегда как-то робели перед ней, а она была… атаман-Маруся! Василий был вторым после Юрки человеком, кто целовал её. Но его поцелуи были совсем не похожи на Юркины. В его тонких губах была та же стальная сила, что и в его объятиях, из которых – это она уже знала по опыту – не было выхода. Он целовал её с каким-то отчаянием, горячо, до боли, ей нечем было дышать, в конце концов, она начала его отталкивать.
– Ты что, Васька! Ты мне губы оторвёшь!
«Ну и пусть!» – казалось, говорил ей его смеющийся и в то же время пугающий взгляд.
Да, он пугал её. Она, несомненно, боялась его и этой его непонятной власти над собой. Какое странное превращение: она считала его абсолютно ручным, а он оказался диким, диким и опасным.