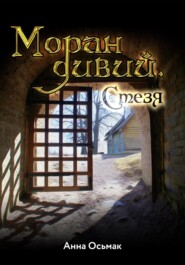По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зозуня! – я обомлела от смурного предчувствия. – Ты чего здеся?
– От же ж! – удивилась та, обтирая грязные руки о грязный подол. – Ведомое дело – госпожу сопровАжую. Чего мне туточки одное-то шукать? Рази что тётку проведывать, – она заговорщически подмигнула Лиходею, обомлевшему от проявлений подобной интимности, – так я скажу: нету у меня такого желания. Тётка у меня тут живёт, в роду Потаты Трясогузки, коей мужик, Вятка Овчар, у прошлом годе волкам бычка скормил. Двухлетка. От добра была скотинка! Уж как Вятка убивался, всё боялся жинке своей рассказать – пришибёт. Рука-то у неё тяжёла. Уж я-то покуштувала ейное битиё всласть – так уж приложит, аж гул и звон кругом стоит. Меня чуть не прибила за захромавшую овцу! Хорошо, тётка встряла, предложила сменять меня в Болонь на тако ж бычка. Вот и сменяли. Да я вам скажу – не такой то бычок, куды ему! И масть друга, и стать не та. В лобе не крут – не выйдет из него доброго бугая. Так, бугаишка, мабуть. Да всё одно… Тётка баяла, что даже за середнячка таких, как я, трёх штук мало. Стал быть, с прибытком сменяли. Да и то верно – на кой Овчарам девку-приблуду кормить? Я ж сиротина горька, – девка шмыгнула носом и заморгала глазами, – рода мово не осталось, всех дубрежи пожгли да порезали, – она утёрла мокрый нос рукавом, высморкалась в подол и заголосила внезапно: – Закрылися ихи очи светлы, упали рученьки белы, головушки посечёны, упокоились резвы ноженьки!..
– Чего рты раззявили? – гаркнул сотник на кметей. – Девку-замарашку не видали? Проезжай давай!
Держена наклонилась с седла и отвесила дурёхе подзатыльник:
– Где хозяйка твоя? – прошипела она, брезгливо вытирая ладонь о штанину.
Девка не обиделась. И голосить перестала. Почесала ушибленный затылок.
– Шо ж драться-то? – глянула исподлобья на поляницу глазами цвета линялого неба. – Я б и так свела…
Зозуня зачавкала мокрыми поршнями по улице, косолапя слегка и безостановочно шмыгая носом. Мы с Держеной двинулись следом.
– Поляница на свинье,
Кметь впряжён в телегу, – заголосила она вдруг, плюхая впереди. Я подпрыгнула в седле от неожиданности.
Скачет княжич на скамье
На потеху всем в рванье,
Спать ложится на стерне,
Мышу жарит на костре –
Празднует победу!
– Ох и шумна ты, коща, – буркнула я, переводя дух. – Неудивительно, что Овчары тебя сбагрить торопились.
– Коль попалась на вранье –
Киньте, други, в реку! – весело подхватила Держена и шуганула певунью. Та, завизжав, неуклюже ринулась вперёд, отчаянно косолапя. Опосля оглянулась и, отметив, что никто не собирается её преследовать, дабы кинуть в реку, снова размеренно заплюхала впереди, притопывая да приплясывая, громко и бестолково голося.
– Отуточки, девоньки, – объявила она, останавливаясь у крепкого длинного сруба с тёплой земляной крышей, поросшей первой весенней зеленью.
… Внутри было сумрачно и душно. Въедливый дух простоявшихся щей, мнилось, годами пропитывал это жилище, внедряяся в дерево стен, полотно рушников и одеял, кожу людей…
– Здравия вам, люди добре! – поклонилась я в пояс от порога. – И дедушке вашему запечному, и деткам в люльке, и коровкам в стойле – жита и благости.
Навстречу мне поднялась дородная Трясогузова большуха.
– И тебе здравствовать, княжна, – сказала она, кланяясь. – Проходите, гости дорогие, к столу.
Домочадцы засуетились, забегались, накрывая несвоевременный обед. Большуха хлопотала боле всех.
– Уж така радость в нашем дому ныне, любезная княжна, – растекалась она патокой, пока мы с Держеной рассаживались по лавкам. – Уж така радость! А ведь чаять не чаяла, что случиться она, что заглянёшь в скромную лачугу Потаты, удачу в неё принесёшь, добрая княжна…
Скоблёный стол покрыла узорочна скатерть, на колени легли шиты рушники.
– А испробуй, светлая княжна, кисельков ягодных, пряничков медовых, крендельков маковых. А от уж и взвар подоспел! Ох, и хорош-то у нас взвар, лучше моей Стаськи никто его не готовит! Отведай, не обижай пренебрежением…
Было странно и сладко принимать её хлопоты. Чувствовалось в них не только гостеприимство сулемское, но почитание и почтение. Словно не Рыську, княжью дочку неудАлую, принимали, а государыню добрую, украшенную годами, чадами многими и многими добродетелями. Неудобно это, неправильно. Хотя… Горечь, сочившаяся сквозь сладкую щекотку тщеславия, свербила, не давала забыть, что почести все и любовь народная бывшему навкину подкидышу не просто так насыпаны. А за ту жертву, на кою меня, исторгнутую из рода, обрекли. За ту жертву, на кою я безропотно согласилась.
Одиночество обступило ватным туманом. Я схватилась за пирожок, надеясь скрыть замешательство, жевала, не чувствуя вкуса, и думала о том, что сейчас я для сулемов всё равно что умершая. Душу мою, скорбящую о покинутых родных, прибывающую среди них, надо почтить. Но это не надолго. Скоро тело возложат на погребальный костёр, пропоют прощальную… Только душе отлетевшей лучше будет за смрадной Смородиной, нежели мне на степных берегах Ветлуги. Душа встретится с пращурами ласковыми – и снова в семье, снова с родичами, не одна. У исторгнутого из рода нет никого. И даже щуры мои от меня отвернутся.
– Благодарность прими нашу, мать славного рода, – молвила Держена, покосившись в мою сторону, – за хлеб, за квас, за добро, за ласку. Видим ныне, не зря слава о гостеприимстве Потаты Трясогузки столь велика. Каждый, далеко оставивший родной кров, может в твоём доме не странником перехожим принят быть, но родимичем дорогим.
Домочадцы захихикали, зашушукались, топчась за широкой спиной большухи. Хозяйка важно кивнула головой.
– А скажи-ка нам, многоуважаемая, не приходилось ли тебе привечать кого на днях, притекшего, как и мы, их Болони?
– А как же, госпожа! – Потата зыркнула в сторону Зозуни, коя у порога задумчиво ковыряла в носу. – Как же не приветить путника? Как не накормить, не обогреть, в баню не сводить, спать не уложить? И пытать принудными расспросами в доме моём не станут, коли сказывать сам не восхочет. А как же, госпожа? Мы свято блюдём пращуровы заветы, от светлых богов заповеданные…
– Что-то не упомню я завета, по коему единокровницу свою принято в кощи продавать, – вырвалось у меня совершенно для самой себя неожиданно.
Хозяйка осеклась, домочадцы припухли.
– Светлую княжну, должно, обманули, – просипела хмурая баба от печи. Сухая, рослая, с крупными узловатыми руками, почерневшими от тяжёлой работы, устало сложенными на впалой груди, она смотрела исподлобья колюче и напряжённо, поджимая тонкие губы. Темный платок вместо гордой кики, знаки вдовства и бездетности на ожерелье неряшливой вышивки – вся она, как укор беспечной радости. – Девка сия к роду Овчаров не имеет никакого касательства. Я и сама-то здесь седьмая вода на киселе – сестра жены сводного брата Потаты, взятого в наш род на Болотные Межи. А Зозунька вообще сбоку припёка. Подобрала я её в лопухах, когда бегла от дубрежей проклятых. Притекла вот к родичам сама, да хвост приволокла. Благодарение Потяте добросердечной – приняла обеих, не погнала в шею, не захолопила…
Она потупилась хмуро в пол, расцепила руки, огладив корявыми пальцами латаный передник.
– А рода Зозунька самого худого, из всех, что жили на Межах – негодящего рода, беспутного. Бездельники да сиромахи блажные породили девку сию людям в тяготу. Сидят, бывалоче, посиживают, в потолок поплёвывают, то на гусельках бренчать, то в небо глядять. Срамота! Коровёнка голодная орёть надрывается, а хозяйка мух у оконца давит. Не пахали они николи, не сеяли – то кляча, бают, сдохла в зиму, то зерно посевное по голодным Прощаницам стрескали. А уж коли посеют, так всё одно не вырастят, а коли вырастят – не сожнут, а сожнут – так сырьём сгноять. Перебивались едино общинным коштом, токмо от доброты людской ноги не протягивали…
– Да уж, Квасена, княжна и сама, мнится мне, не слепая, – встряла хозяйка, – сама видит, что девка-то нечредима, дурковата, от худого роду. Куды ея девать, непутёху?
Непутёху? Вот, значится, как… Духовная мне посестра, видать, эта красномордая дубинушка…
– Зозуня, поди сыщи госпожу, – бросила Потата в угол.
Девка встрепенулась от задумчивого ковыряния в носу, стукнулась лбом о косяк, неловко протиснулась в приоткрытую дверь и загрохотала в клети, напоровшись на пустые вёдра.
Потата выразительно вздохнула.
– Мы же со всем нашим радушием, госпожа, – она поджала губы, сложила руки на животе, под передником. – Приняли, значиться, сироту безродную, вырастили, выкормили. Мы б и оженили ея, да хто ж на таку позарится? Безродну да блажну?..
Стремительно распахнутая дверь бухнулась об стену, загремел опрокинутый сотрясением ухват.
– Доброго дня в добрый дом, – хмуро буркнул Межамир, появляясь на пороге. – Прости, хозяйка, за гостевание незваное. А токмо с сестрицей милой в разлуке день за год, тоска заедает. Позволь увесть ея из дома твого гостерадного, мать славного рода, Потата Вышатична.
Во дворе я попыталась отнять у брата руку. Напрасные труды.
– Чего вытворяешь, девка? – прошипел он мне в висок. – Почему никого не упредила об отлучке своей?
– С чего бы?
– С того, дурища, что не принадлежишь ты боле себе! Не ходишь боле где вздумается и когда вздумается!