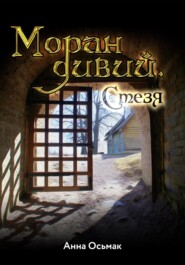По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Анна Осьмак
Юная княжна из захолустного княжества вынуждена покинуть родную землю. Чем обернётся для неё это путешествие? Разочарованием, бедами, бесславной гибелью? А, может, великими свершениями ради своего народа?
Вторая книга из "Морановской" серии.
Анна Осьмак
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Вот как мы поймём, что конец времён уже не за горами: век богов отойдёт в далёкое прошлое, сменившись веком людей. Боги будут спать – все, кроме зоркого Хеймдалля. Он один увидит, как всё начнётся, но сможет только смотреть: предотвратить сужденное ему не под силу.
Рагнарёк
I
Зима в нынешнем году выдалась гнилая. Сырые ветры несли бесконечные оттепели, серое небо сыпало моросью на чёрную, измятую колеями землю, схватывающуюся по ночам лёгким морозцем, а днём снова расползающуюся ледяной болотной жижей под тяжёлыми от грязи поршнями сумрачных сулемов. Дороги стали непролазные, лёд на реке – пористым, ненадёжным – он кочковался льдинками у берега, то смерзаясь нелепыми буераками, то распуская их в начинающей дышать воде.
Люди тосковали. Болели. Голодали. Жалились друг другу: отчего в этот раз Макона обошла стороной Суломань? Решила, может, не рады ей здесь? Может, обиделась, что люди сроду весну зазывают да славят, даже посреди времени, отведенного только ей, ледяной Маконе?
Ох, люди – звери суетливые… Чем же Зимушка вам не гожа? Разве мало даров несёт она с собой – здоровая, ядрёная, снежная? Разве не отсыпает щедрой рукой пушного зверя, не заводит в силки жирных зайцев, не указывает охотникам путь губастого лося? Разве не сгоняет она в ваши сети сладимую пудовую белорыбицу? Не дарит отдохновение от летних тягот оратаю? Разве не румянит щёк красным девкам? Разве не веселит праздниками и забавами на пьянящем морозе? Разве не достаточно жарка её баня? Не достаточно студёна прорубь?
Эх, люди… За что не любите Макону белокосую? Гнева её боитесь? Горшками с кашей всё откупиться пытаетесь – чтобы не лютовала, стариков не забирала, по лесу деревьями не трещала, волков к весям не приваживала… Да убиралась поскорее. Сразу после Прощаниц.
Так вот будет же вам. Узнаете, люди, что ни столь гнев её страшен, сколь страшно её равнодушие. Забудет она вас, обойдёт она вас, затаит ледяное дыхание, пролетая над землёй Суломани.
Где же она? – удивятся старики в месяц полузимник.
Что же она? – нахмурятся охотники, считая дни студеня.
Увы нам! – заплачут бабы на исходе лютовея, отправляя мужиков резать последнюю скотинку.
А в сечень соберутся люди на вече и призовут жреца её. И низко опустит он голову, и достанет кривой жертвенный нож, и срежет им с рубахи обереги и знаки её, и протянет нож княгине, стоящей над всем народом. И сделает княгиня то, что должна сделать…
* * *
Застёгивая на ходу широкий ремень, стягивающий полы короткого дублёного полушубка, нахлобучивая кунью шапку и закидывая на плечо самострел, я нырнула под низкую притолоку в клеть. Протянула руку к захованным в дальнем углу любимым широким охотничьим лыжам, погладила их раздумчиво по ершистому камусу словно доброго пса. Пропустила меж пальцев ремни креплений из добротной лосиной кожи – не потрескались ли, не заломились? Мягкая даже в холодной клети кожа нигде не ципнула ладонь: гладкая, словно шлифованное дерево, она была приготовлена на славу – сама делала. Разве такое поручишь кому? Лыжи ведь в зимнем лесу важнее верного пса, а порой и доброй стали – пропадёшь без них. И с ними пропадёшь, если подведут, недобро сработанными окажутся.
Вздохнув, отвела глаза от мохнатых своих летунов, да и потащила из стойки гольцы. По той мокроти, что квасила на улице, на таких сподручней. Они тоже неплохи. Ещё дедовы, сработанные из зимней берёзы, крепкие, ладные, ходкие. Только ремни на них меняла, и то раз всего. Я их любила – и за лёгкость, и за наговорённую им под пяту удачливость, за осязаемую одушевлённость. Казалось, живёт в них часть дедовой сути – обережная, добрая, мне завещанная. Поэтому они ценны.
И всё же.
Камусные я делала сама – ладила всю осень, с толком, с чувством, по всем правилам: и в луне их святила, и в дождевой воде грозовой их отмачивала, и концы на обновлённом в новый год огне обжигала, и шкуру жертвенного коня добывала… Охохонюшки… Простояли мои летуны не крытыми, как девка-перестарок, всю зиму. Не дала мне зима-размазня возможности спытать своё детище в деле. А ныне уж и Прощаницы прошли. Так и отправлю их на летовку не езжими покрываться паутиной да пылью. И буду думать да маяться замятней: не растеряют ли силу наговорённую, влитую мною под пяту да в узлы крепежей? не затухнет ли слабый уголёк Сведецевой зарницы между шерстинками камуса из-за того, что не удалось разжечь его в ровный и мощный огонь лётом по искрам чистого снега?
Чего уж тут гадать? Поживём – увидим.
Толкнув скрипучую дверь, я вывалилась на высокое крыльцо.
Серое небо висело над серыми крышами Болони.
Называлось наше селище так потому, что лежало в низменном поречье разливанной Ветлуги. Её устье, делившееся на сотни проток, делало жизнь здесь не очень уютной. Короткое северное лето со звенящим от гнуса воздухом и сырая ветродуйная весна – благодарение богам – длились недолго. Мимолётный благостный вересень приносил отдохновение от ветров, сырости и кровожадного гнуса, навевая скорые заморозки, и уступал место долгой здоровой зиме. Не всегда простой, не всегда благодушной, но все же наиболее уютной здесь, в гнилых болотах поймы.
Дома в Болони ставили на высоких сваях – половодье в этих землях испокон веку было дело непредсказуемым: что по силе разлива, что по длительности. Говорят, места наши гиблые. Но я, разменяв свои двадцать зим, никогда не видела иных земель и не знала другой жизни. Ко всему я здесь была привычной и находила радость и красоту в своей земле, которую чужаки, быть может, и не желали замечать.
Однажды, в давнем детстве, я слышала, как судачили отцовы кмети, не обращавшие внимания на снующих на княжьем подворье вездесущих детей и щенков, почитая их примерно равными в развитии и потребностях.
– С чего это княгиню занесло в этакую возгряную топь? Или посуше в Суломани места не нашлось?
– Ото ж. За Силяжью да Нырищами уже жить можна. А тута Истолово логово, а не земля. Благо, уберёмся отсель до новой луны уж точно. Внове Силь с восхода попёрла. Бают, Копытени пожгли, на Воловцы облизываются. Чают себе ещё кусок Заречья оттяпать…
– Да уж лучше посечену быти в бою, нежели тухнуть тут вживе среди комарья да болот…
Была я мала в ту пору летами, а всё же засел этот разговор гвоздём в голове, заставил задуматься над жизненным устройством. К кому пойти расспросить, кто разъяснит дитятке?
Мать далека и недосягаема как заря. Княгиня сулемов всё время занята большим хозяйством княжеского подворья, делами Болони и всей Суломани. Её огнецветная, высокая, рогатая кика лишь изредка мелькала в моём детстве на фоне вечевых сборищ, в чадящих факелами гридницах, среди пирующей дружины, на княжьем дворе, утоптанном в каменную твердь ногами сулемов, ищущих справедливого суда у своей большухи.
Отца я видела ещё реже – возвращающимся из военных походов во главе бородатых воев – мощным, ширококостным, словно вырезанным из каменного дуба. Он спешивался у крыльца, оглаживал шею своего усталого гнедого, кланялся княгине, принимая из её рук ковш с пенным пивом, и скрывался за дверью гридницы. Детей, выведенных к ступеням ради встречи, он, казалось, не замечал. Знал ли он вообще моё имя?
Однажды я имела возможность убедиться, что знал.
На одном из пиров, наклоняя резной ковш с крепким мёдом над братиной, стоящей у локтя князя, почувствовала на себе его взгляд. Повернула голову. Глаза у отца серые, как пасмурное небо. А я и не знала ране.
– Ох, и руда же ты, Рыська, – сказал он без всякого выражения. – Не найдёшь себе мужика. Готовься в кмети. Возьму в дружину, коли захочешь. Коли лениться не станешь. Не станешь?
Он поднял тяжёлую бронзовую братину, украшенную диковинными латыгорскими зверями, отпил и передал кметям на правую руку.
– Чего молчишь? Або век свой собираешься меж коров с подойником бегать? Забыла чья ты дочь?
Не мудрено забыть, подумала я уныло, коли тебе об этом так редко напоминают.
– Не стану, – сказала вслух, – лениться, батюшка.
Это был мой единственный разговор с отцом за тринадцать минувших мне в ту пору зим. Я только недавно уронила первую кровь и опоясалась понёвой поверх детской рубашонки. Мать повязала мне на голову девичий венчик, обозначив начало пригляда, и вздохнула безнадежно над моей ярко-рыжей головой. Но промолчала. А отец приговор озвучил.
Хотя, сказать честно, родители долго меня невестили, особенно когда поняли, что в воинском деле я так же не блистала, как и во всём остальном. Долго обводили сватовством младших сестёр – раскрасавиц да умниц, истинную награду роду. Что своему, что желающему породниться. И только вчера мать велела снять мне венец и отдать его сестрице Заряне.
А что? Я сняла. Может, оно и лучше. Хоть люди перестанут шептаться да пересмеиваться…
Да всё одно: что в невестах спине колко от взглядов насмешливых, что развенчанной больно от ущербности своей. И пожалиться некому: дедушка родной уж пять зим как ушел к пращурам, приглядывая за мной теперь со светлых холмов той небесной страны, куда на зиму улетают птицы. Я чувствовала его присутствие, он не покидал меня ни на один день, оберегая от острых клыков волка и от лихого человека. От себя самой только ему было меня не уберечь – от злосчастья моего прирождённого и горького одиночества среди шумного полнокровного рода.
Да и что мне в той большой семье без него? Он один был для меня семьёй, родовичем, наставником, теплотой дома и родительской любовью. Сейчас не побежишь, как раньше, в его тёплую одрину за околицей, не прижмёшься щекой к теплой жилистой руке старого кузнеца – коричневой и огромной как лопата. Не погладит она меня больше по макушке, не подновит порванный черевик, не вырежет липовую куколку на забаву девоньке. Эх, дедушка, одна я совсем под серым небом Болони. Не к кому пойти, не у кого спросить, некому пожалиться…
Раньше-то, как что, к нему и бежала, со всеми своими детскими вопросами и недоумениями. И получала на них вполне взрослые ответы. Я и тогда побежала, после поразившего меня разговора отцовых кметей. Покрутила его в своей голове, примеривая так и этак, не смогла приладить, вписать в свой сложившийся мир.
…Дед был дома – вязал рыболовную сеть крепкими дублёными пальцами, щурясь на рукоделие дальнозорко, отводя его на вытянутых руках. Он теперь всё реже наведывался в кузню, передавая дело сыну молодшему Могуте, брату моего отца.
Лихо прогремев пятками по ступеням высокого крыльца задранной на сваях добротной одрины, ввалившись в дверь и наспех сотворив поклон домовому, бухнулась у ног хозяина. Расправила на пальцах, натянула тонкое плетение, чтобы деду удобнее было затягивать узлы.
– Али устыри болотные гнались за тобой, девонька? – осведомился он, хмуря седые брови.
Анна Осьмак
Юная княжна из захолустного княжества вынуждена покинуть родную землю. Чем обернётся для неё это путешествие? Разочарованием, бедами, бесславной гибелью? А, может, великими свершениями ради своего народа?
Вторая книга из "Морановской" серии.
Анна Осьмак
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Вот как мы поймём, что конец времён уже не за горами: век богов отойдёт в далёкое прошлое, сменившись веком людей. Боги будут спать – все, кроме зоркого Хеймдалля. Он один увидит, как всё начнётся, но сможет только смотреть: предотвратить сужденное ему не под силу.
Рагнарёк
I
Зима в нынешнем году выдалась гнилая. Сырые ветры несли бесконечные оттепели, серое небо сыпало моросью на чёрную, измятую колеями землю, схватывающуюся по ночам лёгким морозцем, а днём снова расползающуюся ледяной болотной жижей под тяжёлыми от грязи поршнями сумрачных сулемов. Дороги стали непролазные, лёд на реке – пористым, ненадёжным – он кочковался льдинками у берега, то смерзаясь нелепыми буераками, то распуская их в начинающей дышать воде.
Люди тосковали. Болели. Голодали. Жалились друг другу: отчего в этот раз Макона обошла стороной Суломань? Решила, может, не рады ей здесь? Может, обиделась, что люди сроду весну зазывают да славят, даже посреди времени, отведенного только ей, ледяной Маконе?
Ох, люди – звери суетливые… Чем же Зимушка вам не гожа? Разве мало даров несёт она с собой – здоровая, ядрёная, снежная? Разве не отсыпает щедрой рукой пушного зверя, не заводит в силки жирных зайцев, не указывает охотникам путь губастого лося? Разве не сгоняет она в ваши сети сладимую пудовую белорыбицу? Не дарит отдохновение от летних тягот оратаю? Разве не румянит щёк красным девкам? Разве не веселит праздниками и забавами на пьянящем морозе? Разве не достаточно жарка её баня? Не достаточно студёна прорубь?
Эх, люди… За что не любите Макону белокосую? Гнева её боитесь? Горшками с кашей всё откупиться пытаетесь – чтобы не лютовала, стариков не забирала, по лесу деревьями не трещала, волков к весям не приваживала… Да убиралась поскорее. Сразу после Прощаниц.
Так вот будет же вам. Узнаете, люди, что ни столь гнев её страшен, сколь страшно её равнодушие. Забудет она вас, обойдёт она вас, затаит ледяное дыхание, пролетая над землёй Суломани.
Где же она? – удивятся старики в месяц полузимник.
Что же она? – нахмурятся охотники, считая дни студеня.
Увы нам! – заплачут бабы на исходе лютовея, отправляя мужиков резать последнюю скотинку.
А в сечень соберутся люди на вече и призовут жреца её. И низко опустит он голову, и достанет кривой жертвенный нож, и срежет им с рубахи обереги и знаки её, и протянет нож княгине, стоящей над всем народом. И сделает княгиня то, что должна сделать…
* * *
Застёгивая на ходу широкий ремень, стягивающий полы короткого дублёного полушубка, нахлобучивая кунью шапку и закидывая на плечо самострел, я нырнула под низкую притолоку в клеть. Протянула руку к захованным в дальнем углу любимым широким охотничьим лыжам, погладила их раздумчиво по ершистому камусу словно доброго пса. Пропустила меж пальцев ремни креплений из добротной лосиной кожи – не потрескались ли, не заломились? Мягкая даже в холодной клети кожа нигде не ципнула ладонь: гладкая, словно шлифованное дерево, она была приготовлена на славу – сама делала. Разве такое поручишь кому? Лыжи ведь в зимнем лесу важнее верного пса, а порой и доброй стали – пропадёшь без них. И с ними пропадёшь, если подведут, недобро сработанными окажутся.
Вздохнув, отвела глаза от мохнатых своих летунов, да и потащила из стойки гольцы. По той мокроти, что квасила на улице, на таких сподручней. Они тоже неплохи. Ещё дедовы, сработанные из зимней берёзы, крепкие, ладные, ходкие. Только ремни на них меняла, и то раз всего. Я их любила – и за лёгкость, и за наговорённую им под пяту удачливость, за осязаемую одушевлённость. Казалось, живёт в них часть дедовой сути – обережная, добрая, мне завещанная. Поэтому они ценны.
И всё же.
Камусные я делала сама – ладила всю осень, с толком, с чувством, по всем правилам: и в луне их святила, и в дождевой воде грозовой их отмачивала, и концы на обновлённом в новый год огне обжигала, и шкуру жертвенного коня добывала… Охохонюшки… Простояли мои летуны не крытыми, как девка-перестарок, всю зиму. Не дала мне зима-размазня возможности спытать своё детище в деле. А ныне уж и Прощаницы прошли. Так и отправлю их на летовку не езжими покрываться паутиной да пылью. И буду думать да маяться замятней: не растеряют ли силу наговорённую, влитую мною под пяту да в узлы крепежей? не затухнет ли слабый уголёк Сведецевой зарницы между шерстинками камуса из-за того, что не удалось разжечь его в ровный и мощный огонь лётом по искрам чистого снега?
Чего уж тут гадать? Поживём – увидим.
Толкнув скрипучую дверь, я вывалилась на высокое крыльцо.
Серое небо висело над серыми крышами Болони.
Называлось наше селище так потому, что лежало в низменном поречье разливанной Ветлуги. Её устье, делившееся на сотни проток, делало жизнь здесь не очень уютной. Короткое северное лето со звенящим от гнуса воздухом и сырая ветродуйная весна – благодарение богам – длились недолго. Мимолётный благостный вересень приносил отдохновение от ветров, сырости и кровожадного гнуса, навевая скорые заморозки, и уступал место долгой здоровой зиме. Не всегда простой, не всегда благодушной, но все же наиболее уютной здесь, в гнилых болотах поймы.
Дома в Болони ставили на высоких сваях – половодье в этих землях испокон веку было дело непредсказуемым: что по силе разлива, что по длительности. Говорят, места наши гиблые. Но я, разменяв свои двадцать зим, никогда не видела иных земель и не знала другой жизни. Ко всему я здесь была привычной и находила радость и красоту в своей земле, которую чужаки, быть может, и не желали замечать.
Однажды, в давнем детстве, я слышала, как судачили отцовы кмети, не обращавшие внимания на снующих на княжьем подворье вездесущих детей и щенков, почитая их примерно равными в развитии и потребностях.
– С чего это княгиню занесло в этакую возгряную топь? Или посуше в Суломани места не нашлось?
– Ото ж. За Силяжью да Нырищами уже жить можна. А тута Истолово логово, а не земля. Благо, уберёмся отсель до новой луны уж точно. Внове Силь с восхода попёрла. Бают, Копытени пожгли, на Воловцы облизываются. Чают себе ещё кусок Заречья оттяпать…
– Да уж лучше посечену быти в бою, нежели тухнуть тут вживе среди комарья да болот…
Была я мала в ту пору летами, а всё же засел этот разговор гвоздём в голове, заставил задуматься над жизненным устройством. К кому пойти расспросить, кто разъяснит дитятке?
Мать далека и недосягаема как заря. Княгиня сулемов всё время занята большим хозяйством княжеского подворья, делами Болони и всей Суломани. Её огнецветная, высокая, рогатая кика лишь изредка мелькала в моём детстве на фоне вечевых сборищ, в чадящих факелами гридницах, среди пирующей дружины, на княжьем дворе, утоптанном в каменную твердь ногами сулемов, ищущих справедливого суда у своей большухи.
Отца я видела ещё реже – возвращающимся из военных походов во главе бородатых воев – мощным, ширококостным, словно вырезанным из каменного дуба. Он спешивался у крыльца, оглаживал шею своего усталого гнедого, кланялся княгине, принимая из её рук ковш с пенным пивом, и скрывался за дверью гридницы. Детей, выведенных к ступеням ради встречи, он, казалось, не замечал. Знал ли он вообще моё имя?
Однажды я имела возможность убедиться, что знал.
На одном из пиров, наклоняя резной ковш с крепким мёдом над братиной, стоящей у локтя князя, почувствовала на себе его взгляд. Повернула голову. Глаза у отца серые, как пасмурное небо. А я и не знала ране.
– Ох, и руда же ты, Рыська, – сказал он без всякого выражения. – Не найдёшь себе мужика. Готовься в кмети. Возьму в дружину, коли захочешь. Коли лениться не станешь. Не станешь?
Он поднял тяжёлую бронзовую братину, украшенную диковинными латыгорскими зверями, отпил и передал кметям на правую руку.
– Чего молчишь? Або век свой собираешься меж коров с подойником бегать? Забыла чья ты дочь?
Не мудрено забыть, подумала я уныло, коли тебе об этом так редко напоминают.
– Не стану, – сказала вслух, – лениться, батюшка.
Это был мой единственный разговор с отцом за тринадцать минувших мне в ту пору зим. Я только недавно уронила первую кровь и опоясалась понёвой поверх детской рубашонки. Мать повязала мне на голову девичий венчик, обозначив начало пригляда, и вздохнула безнадежно над моей ярко-рыжей головой. Но промолчала. А отец приговор озвучил.
Хотя, сказать честно, родители долго меня невестили, особенно когда поняли, что в воинском деле я так же не блистала, как и во всём остальном. Долго обводили сватовством младших сестёр – раскрасавиц да умниц, истинную награду роду. Что своему, что желающему породниться. И только вчера мать велела снять мне венец и отдать его сестрице Заряне.
А что? Я сняла. Может, оно и лучше. Хоть люди перестанут шептаться да пересмеиваться…
Да всё одно: что в невестах спине колко от взглядов насмешливых, что развенчанной больно от ущербности своей. И пожалиться некому: дедушка родной уж пять зим как ушел к пращурам, приглядывая за мной теперь со светлых холмов той небесной страны, куда на зиму улетают птицы. Я чувствовала его присутствие, он не покидал меня ни на один день, оберегая от острых клыков волка и от лихого человека. От себя самой только ему было меня не уберечь – от злосчастья моего прирождённого и горького одиночества среди шумного полнокровного рода.
Да и что мне в той большой семье без него? Он один был для меня семьёй, родовичем, наставником, теплотой дома и родительской любовью. Сейчас не побежишь, как раньше, в его тёплую одрину за околицей, не прижмёшься щекой к теплой жилистой руке старого кузнеца – коричневой и огромной как лопата. Не погладит она меня больше по макушке, не подновит порванный черевик, не вырежет липовую куколку на забаву девоньке. Эх, дедушка, одна я совсем под серым небом Болони. Не к кому пойти, не у кого спросить, некому пожалиться…
Раньше-то, как что, к нему и бежала, со всеми своими детскими вопросами и недоумениями. И получала на них вполне взрослые ответы. Я и тогда побежала, после поразившего меня разговора отцовых кметей. Покрутила его в своей голове, примеривая так и этак, не смогла приладить, вписать в свой сложившийся мир.
…Дед был дома – вязал рыболовную сеть крепкими дублёными пальцами, щурясь на рукоделие дальнозорко, отводя его на вытянутых руках. Он теперь всё реже наведывался в кузню, передавая дело сыну молодшему Могуте, брату моего отца.
Лихо прогремев пятками по ступеням высокого крыльца задранной на сваях добротной одрины, ввалившись в дверь и наспех сотворив поклон домовому, бухнулась у ног хозяина. Расправила на пальцах, натянула тонкое плетение, чтобы деду удобнее было затягивать узлы.
– Али устыри болотные гнались за тобой, девонька? – осведомился он, хмуря седые брови.