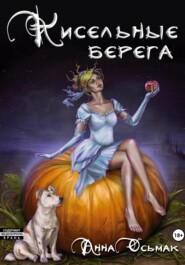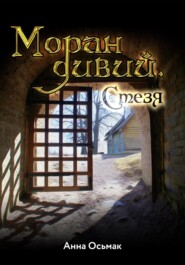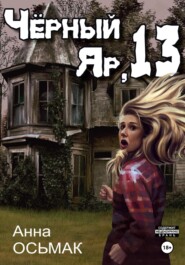По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Варуно! – закричала я в высокое небо, приплясывая на месте от избытка чувств. – Приходи, посмотри, испекли тебе блины – сладкие, румяные, овсянЫе, пряные! Гой, Варуно, ладушко! Посей в землю зёрнышко, чтобы уродился хлебушко, чтобы прибавлялось стадушко, чтобы зачинались чадушки! Гой, Варуно, батюшко! Горобцы чирикают, Весну-Сурожь кликают – кликают-закликАют, гикают-окликАют: ой, посвети-ка ты для пташек, солнышко, ой, на холодную-та водицу; отопри-открой замкнуту накрепко безотрадную темницу – запусти по снегу, жаркое, ярко-рыжу кобылицу!..
Я свернула с просеки – на лыжах здесь уже не пройдёшь – и вновь встала на заячьи тропки. Неслась между соснами счастливая, переполненная солнцем. Внутри словно играло, бродило, пенилось хмельное крепкое пиво, щекотало пузырьками живот, грудь, пальцы… Я горланила во весь голос величальные Варуне и матери его государыне Сурожи. Они пересмеивались тихо, переливчато в высоких кронах оживающего леса и нежно целовали меня, глупыху несуразную, в конопатые щёки…
Знакомая истопка вынырнула из-за деревьев внезапно – так скоро я до неё ещё ни разу не добегала – замаячила болотистая прогалина посередь леса. Истаивая, она тоже парила, облизывая кособокий домишко на невысоких свайках. На ходу скидывая лыжи, я ввалилась в скрипнувшую дверь.
– Бабушка! – позвала дрожащим от возбуждения голосом.
В истопке мирно потрескивал очаг, потягиваясь белым дымом к дымогону. Грубо сколоченный стол прятался под неряшливыми завалами горшков, крынок, травяных веников, венчаясь сладко спящей пятнистой кошкой Хытрей, лениво приоткрывшей глаз мне навстречу… Дверь снова скрипнула за моей спиной, впуская укутанную в плат хозяйку с ведром воды.
– Ох и шабутная ты, девка, – забурчала она, раскутываясь. – Носишься как в зад ужаленная, по сторонам не глядя, меня чуть вихрем с кручи не снесло… Гонится за тобой что ли кто? Ни поклона, ни здравия…
Взглянув строго на моё лицо, прицокнула удивлённо:
– Эк Варуна тебя разукрасил-то! Когда только успел? С ним что ли в лесу миловалась, краля?
– Почём ведаешь..? – опешила я и спохватилась: – Поздорову тебе, бабушка Вежица! Всё ли ладно в твоём дому?
* * *
Войско сулемское обычно торопилось вернуться домой до Прощаниц, пока зима не ушла из поймы, пока пути-дороги были ещё проходимы. Но, видно, удача воинская, удача походная судила в этот раз иначе. Время шло, дозорники, посылаемые встреч войску Межамиром, поставленным этой зимой над городской ратью, возвращались ни с чем. Мрачнела княгиня. Над Болонью повисло тягостное беспокойство. И то сказать – почти от каждого рода в дружине князя свой родович: сын, муж, отец, брат… Поэтому прилетевший спустя половину луны от ожидаемого срока прибытия князя вестовой голубь был воспринят не иначе посланником доброй Сурожи.
Подняв очи от крошечного свитка бересты с вычерченными букашками рун, мать объявила нам, а после распорядилась сообщить и всему селищу, что беды не случилось. Князя задержало дело нарочитое. Со дня на день прибудет он сам со дружиною, овеянной пылью походов и славой геройских сражений.
– Отстояли Воловцы, – передавалось из уст в уста, прирастая подробностями и размышлениями на тему: а сдались бы нам эти Воловцы? Провалились бы они пропадом к Истоловой сили в преисподнюю!..
Вялотекущая война в последние годы всё более заключалась со стороны Сили в нападении на Воловцы, а со стороны Суломани – в отбивании этих набегов. Союз с Дубрежем у островных северян что-то разладился, а проблем прибавилось: стали пощипывать буйную силь какие-то странные, пришедшие с захода люди. Бают, несли они будто на концах своих пик и мечей, вместе с запахом смерти, нового бога.
Мне казалось, больше врали. Коли бог хорош, силь и без принуждения поставила бы его кумира на своём капище. Никакой народ не откажется почтить сильного, благого бога соседей. А вдруг не зря? А можа пригодится? Всегда лучше иметь чужеродное могущество в друзьях, нежели в недругах.
Но всезнающие кмети в запале спора начинали брехать уж явную несуразицу: будто люди эти не согласны были на соседство своего бога с другими, считая его единым и истинным, раздавая хулы поносные всем прочим верам. Как гучи, что ли? Пёс их знает…
Говорили, что ради него они отреклись от пращуровой веры. Мой дед считал, что хуже такого предательства быть ничего не может. А в моём скудоумном разуме вообще не укладывалось понимание: а зачем? Зачем его совершать это страшное предательство? Какова нужда? В чём сермяжная суть? Может, этот бог настолько силён и всемогущ и дары его так велики, а подавляющая сила властвовать над миром так необорима, что отказать ему людям не стало ни мочи, ни сил, ни… желания? Хотя зачем богу властвовать над миром? Разве он не есть мир? О государь Сведец! Помоги разобраться…
Впрочем, люди эти с заката, снаряженные в чёрные хламиды, вели себя как обычные набежники. Убивали разве что во славу своего бога, а полоняли и грабили во славу своей мошны. И не было разницы разорённым селищам какие знаки малевали богоносцы на своих хламидах и кому клали требы.
Вот и сулемам не было дела до воинственного бога чёрных людей. Хотя, по справедливости, не мешало бы нам найти место его идолу в Болонской кумирне. Ибо его люди здорово отвлекали силь да дубрежь от окончательного растерзания нашей бедной земли.
Воевать «чёрные» любили по лету. Сулемы в это время могли расслабиться – посеять и убрать урожай, подготовиться к походу. А в полузимник, по первопутку, уходило княжье войско к закатным холмам, стеречь изрядно подвинутые силью границы, да отбивать традиционные поползновения на Воловцы, переходящие из рук в руки. Если бы не «чёрные», силь давно бы закрепилась там. А ведь стоит ей только кусок позволить откусить, рот сам на следующий раззявится. Доколе хищникам этим куски те в пасть кидать – до Болони? Неужели и вправду не понимали того сулемы, возмущающиеся ежегодными сражениями за крошечное селище, давно, кстати, оставленное людьми? А вообще-то, этим досужим баламутам всё едино: не отдаем Воловцы – брюзжат, отдадим – освистают.
Хорошо хоть князю на ворота не укажут. Слава богам, у сулемов, не то что у беззаконных полян, блюдут пращуровы традиции честь по чести. Князья – это вам не посадники: захотел – поставил над делами селища, расхотел – погнал поганой метлой. При таком устройстве только и знай с вечем языкатым заигрывай, а не дела справедливые верши. При таком устройстве Суломани уж давно не стало бы.
Не скажу, что у нас князь к вечу не прислушивается, но всё же поступает так, как долг велит, да как княгиня разумеет. Поелику от века у нас над народом большуха стоит. А дочь её, самая ладная да разумная из нарождённых, делам её, успехам и бедам наследует. И мужа она берёт в род свой, а не наоборот, как у полян беспамятных. Берёт такого, чтоб был защитой народу, ей опорой.
Мой отец – вторым князем при большухе. Первого убили дубрежи в битве у Сторожевых холмов. Из той битвы никто не вернулся, посекли всю дружину. Князя в куски изрубили. И княгине голову его прислали: вот, мол, отдариться желаем за новоприобретённые земли. Присылай, княгиня, своих сыновей, чтобы было из чего нарубить тебе ещё подарочков.
У княгини от мужа осталось два малолетних сына: Межамир и Воин. В тот страшный день стояли они одесную от матери, внимая погибельной вести. Что чувствовали они тогда? Что чувствовала княгиня, держа в руках голову мужа? Ни сулемы, ни враги их не смогли прочитать на её застывшем каменной маской лице ничего.
Бестрепетной рукой она передала голову старшему сыну и велела слам дубрежским отнести князю Свиличу своё покаянное слово:
«Вижу, князь, велик ты и силён и всегда добываешь желаемое. Лишили боги меня разума, когда решила я сражаться с тобой, когда решила противиться славному непобедимому Дубрежу. Вижу ныне – глупа была. Не суди строго. Пожалей народ мой, ибо народ мой ныне – бабы да ребятишки. Некому боле выйти в ратное поле, посекли твои мечи булатные удаль сулемскую. Присылай, князь, людей своих думных, пока Силь не опередила твои притязания – уж не смогу я их боле сдерживать. Об одном буду просить слов твоих – о пощаде. И о цене её торговаться не стану. Не след мне теперь торговаться…»
После княгиня пошла за околицу, к моему деду, кузнецу Добрану, поклонилась в ноги:
«Отдай в мой род, отче, сына своего. Позволишь ли принять ему тяготу служения? Ради Суломани…»
Так мой отец, воевода Крайны – бывшего княжеского стольца, – стал князем. Обвели молодых вокруг ракиты с благословения Сурожи ещё до того, как голову первого князя предали огненному погребению. Ибо погребению его не пришла к тому времени пора.
Не знаю почему, но Дубреж таки прислал посольство. Может, рассудил, что для него выгоднее не пустые земли истреблённого народа, но покорённые сулемы, платящие дань мехами да рабами? А может, сам Истола помогал тогда овдовевшей княгине?
Посольство вёл сын Дубрежского князя Витко. В обозе грохотали пустые телеги, должные вернуться домой доверху нагруженными слёзными дарами сломленной Суломани.
Дубрежей приняли. С почётом и уважением. И сама княгиня прислуживала за пиршественным столом. И телеги нагрузили доверху. И дорогих гостей напоили допьяна.
Несколько дней пировали победители, а накануне отъезда праздник был особенно хмелён да весел. Каждому гостю преподнесли по бочонку серебра и каждому обещана была юная дева. Забывшие об осторожности дубрежи в угаре разудалой гульбы упивались крепкими медами, не чувствуя странного привкуса травяной горечи в веселящем напитке. А ночью, здесь же, в гриднице, были перерезаны все, как жертвенные бараны.
Телами их сулемы переложили погребальный костёр погибшего князя. Связанный крепкими верёвками Витко, белый словно снег студенецкий, наблюдал за страшной гибелью своих людей остановившимся взором. Он, видно, только об одном в эти мгновения молил Сведеца – о мужестве принять собственную участь.
Когда костёр, достойный сулемского князя, был сложен, княгиня подошла к пленнику и саморучно отсекла мечом его буйну голову. А вместе с его головой и надежду части своих людей на мирное рабство под пятой корыстного соседа. Ещё тёплое, трепыхающееся тело уложили к княжьей голове на костёр, а голову Витко отправили в Дубреж.
«Я всего лишь взяла недостающее, – передала княгиня дрожащему отроку из дубрежского посольства, нарочно оставленному в живых для этих целей. – Ты забрал у меня всё, а вернул так мало. Ты всё ещё должен мне, князь дубрежей».
Под огнецветной кикой княгини, разменявший на ту пору двадцать пять зим, на коротко остриженных медно-русых волосах никому не видать было раннего снега. Зато народ видел, как споро и деятельно новый князь принялся сколачивать дружину и ополчение. Женщины снимали серебряные колты и червлёные обручья, мастеровые да купцы откапывали кубышки – всё ссыпали в княжий котёл на закуп наёмников.
Кузницы гудели печами день и ночь, переплавляя на оружие свозимую в Крайну железную утварь. Благо кузнецам в их ремесле не требуется пригляд прадеда небесного, его Солнечного Ока – у кузнецов особый закон и особые уговорённости с богами…
Сулемы готовились к неизбежному. А когда оно грянуло – всё равно оказались не готовы. Не готовы к гибели своих лучших сынов и дочерей, не готовы к силе и жестокости удара объединённых сил Дубрежа и Сили. Не готовы к жизни в болотах, куда вынуждены были бежать. Не готовы к судьбе вымирающего, униженного племени. Сознание этого язвило и разъедало душу почище лихоманки, терзающей тело в гнилых топях устья Ветлуги…
* * *
– Скоро отец твой возвращается, – подхватив котёл с кипящей водой, Вежица ошпарила куропаток, выпутанных поутру из силков.
Я подсела к парящему чану и принялась щипать птицу. Руки делали привычную работу, но мысли мои витали далеко – я всё ещё переживала встречу с солнечным конём Варуны, посланным за загостившейся в Суломани зимой. После отдаренного Маконе жреца, не возмогшего приманить благую зиму, не сумевшего полюбиться белокосой богине, – Макона решила задержаться. Сулемы уж и Прощаницы позже справили, чтобы обиды ей не чинить, уж и травень-березозол должон расцветать первоцветами, но тянулся бесконечный полузимник, и, казалось, не будет ему конца…
– Да, возвращается, – сказала рассеянно, погружённая в воспоминания о ласковых поцелуях вешнего солнца.
Теперь, правда, в зеркало на себя будет глянуть страшно: налились медным золотом с приходом Варуны мои конопушки, уж и лица под ними, небось, не разглядишь. То-то даже старая мора отметила.
– Кое-что везёт для тебя, – донеслось как будто издалека.
Припаливая птичьи тушки над огнём, споро потроша их и закидывая в закипающий на очаге котёл, я осторожно ощупывала тлеющий в душе солнечный Варунов жар.
– Рыська! Вот уж блажная девка! Слышишь ты меня, хвороба?
– Везёт? – я покопалась в плетёном коробе, выуживая оттуда пару луковиц, добыла из своего мешка немного драгоценной ржи, почерпнутой из скудных остатков княжьих закромов – будет ужо чем сдобрить юшку. – Отродясь гостинцами мы не балованы. С чего бы?
– Так не гостинец то, – мора прибираясь на столе, шугнула оттуда вальяжную Хытрю.
Кошка мекнула недовольно и прошествовала ко мне, бухнувшись под ноги, подставляя под ласку шею и меховой живот. Я присела над ней, почесала мурке за ушами, запустила пальцы в мягкий плотный мех, приподняв, приблизила к лицу животинкину мордочку: