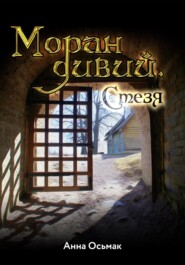По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Для чего же он отстраивает землю свою, коли прочится в род наших князей? Его жизнь и его родина отныне – Суломань. Её ему и поднимать…
Ой и напрасно, дядько Могута, ты брови хмуришь, не обманет никого твой строгий вид. Уж все на соборе ведают и дело, с коим послы пожаловали, и исход его. Со всеми княгиня заранее беседовала, всем объяснила, всякому негодованию дала время остыть. На соборе склоки и сомнения ей были ни к чему. Не приведи, Сурожь, из-за упёртости кого-либо из думных упустить божий дар – посольство мира.
Но традиция требовала обговорить дело, закрепляя решение в сознании людей, вплетая его в полотно божественного промысла. Вот и обговаривали…
– Мой князь просит нижайше мудрых сулемов отпустить назначенную ими невесту в его род, – сотник улыбнулся, сверкнув белыми зубами, совершенно уверенный в успехе предприятия.
А он хорош, помстилось мне. Высокий, мощный. Прямой нос, тёмные пряди, падающие на лоб, глаза прищуривает смешливо, отчего в углах их тонкие лучики… Ох, до чего ж я девка легкомысленная: третьего дня лишь о Миро мечтала, ныне уж и не вспоминаю о нём. Сотника разглядываю. На губы его засмотрелась в жёсткой щетине бороды… Что бы это значило? Оборони, щур, от желаний суетных… А ведь губы его что-то говорят. Что говорят?
– … княжну Рысю Вестимировну.
Что? Что это на меня все так таращатся?
Большуха, не сумевшая скрыть удивления, медленно перевела дух.
– Ты уверен, сотник, что выбор твой будет одобрен князем Радимом?
Сотник поднялся со своего места, поклонился присутствующим:
– Уверен, добрая княгиня, – и вместе с ближниками вышел за дверь.
Следом выскользнула и я, оставив собор переваривать произошедшее.
– Ты назвал моё имя? – догнав сотника, коснулась его локтя, попыталась заглянуть в глаза.
– Решил послушать тебя, княжна, – сказал он, – ты была так трогательна в стремлении к самопожертвованию. Преступно отвергать подобные порывы…
– Смеёшься надо мной? – речи его были странны. Вроде по-полянски говорит, а всё же как-то иначе.
Он покачал головой.
– Не меня ты послушал. Мору ты послушал. Что она тебе сказала? Почему ты изменил решение?
– Много будешь знать, плохо будешь спать, рыжик, – стряхнув мою руку с локтя, он загремел коваными сапогами по ступеням красного крыльца.
* * *
Многия чады породила Сурожь плодородная от супруга своего вечного – государя Сведеца. И до сей поры рождает. Не старится чрево её, не убывает лад супружеский – всё так же, как и на заре времён, обнимает нежно небо светлое землю красную, лаская светом, оплодотворяя дождём – и нет, мнится, силы той, что разорвала бы эти объятия…
Но было время невестино, и было время жениховства. И сватался к юной Сурожи, не украшенной ещё плодами материнства, не только Сведец храбрый, но и тёмный Истола. Отвернулась Сурожь от страсти его безумной, скользнула равнодушным взглядом по дарам бесценным, отвела лёгкой десницей душный морок его желаний. Отвергнутый, затаил он злобу чёрную да обиду горькую, стал выжидать срока для мести.
А у божественных супругов родился тем временем первенец – Варуна ясный. Озарил он жизнь отца и матери своих, воссиял радостно: улыбнулся Сведец, расцвела Сурожь и стала ещё прекраснее.
Сын рос – достиг юности, вступил в пору зрелости. Отправился искать свою Варуницу по белу свету и… попал в сети Истолы. Заманил Премудрый Змей ясного бога к себе, обещав поведети дочь свою юную. И не обманул. Вышла к Варуне дева белоликая да белокосая, укутанная в печаль и тёмные одежды. И вложил Истола руку дочери в руку Варуны, и велел ей поцеловать наречённого. Но как только коснулись губы девы губ влюблённого бога, упал сын Сурожи замертво и погас свет солнечный в новорождённом мире.
Взревел гром боли и ярости Сведецевой, постарела и поседела, обмерла Сурожь. Заплакала белокосая Макона, ибо и ей приглянулся ясный сокол, не желала она его погибели. Но как исправить непоправимое? Как возродить умершее? То не ведомо даже богам…
И решилась дочь Истолы на отчаянный шаг. Втайне от отца, ликующего свершившимся отмщением, Макона замкнула временнУю бесконечность в круг и закрепила концы его страданием земным, небесным и своим. Нет той скрепы надёжней, никто не в силах разорвать бесконечно повторяющийся цикл: Варуна рождается, Варуна взрослеет, Варуна умирает. И всё вокруг него радуется его пришествию в мир и всё оплакивает его уход. И всё на свете живёт в кольце замкнутого времени – боги, земля, небо… И люди. Которые рождаются, взрослеют и умирают. Чтобы в своём потомстве вновь и вновь повторять тот же Варунов оборот, чтобы вновь и вновь любить, страдать, совершать одни и те же ошибки, что и многие поколения до них, не в силах разомкнуть кольцо, не в силах что-либо изменить…
А печальная Макона бродит по земле одна, навечно разведённая с любимым. Ходит за ним по пятам, надеясь догнать, коснуться золотых кудрей, согреть зябкие ладони в его горячих руках. Да только обречена она вечно опаздывать, обречена лишь на излёте дня зацепить взглядом всплеск его удаляющегося за горизонт червоного плаща.
Встретиться они могут только в Варуновы ночи, на берегу белого Студенца, где сходятся день и ночь, свет и тьма. И встреча та бывает прекрасна – полна любви и неги. По всему миру разливается благодать и ничто живое не способно в это время устоять против колдовства божественной любви…
Именно в светлые, пьяные Варуновы ночи мы прибудем в Дубреж, где остановимся ненадолго перед дорогой в пустынные Угрицкие земли. Сотник сказал, в Зборуч отправимся вверх по Ветлуге.
Что ждёт меня в Дубреже? Уж точно не объятия лады, не варунов костёр, не хоровод девичий. Ждут меня враги давние, злейшие кровники, волей небесных прях ставшие моими родичами. Как встретят они меня? Как встретят их пращуры? Примут ли? Позабудут ли, простят ли кровь внуков своих, пролитую руками моего народа?
Ох, щур, помоги мне, щур…
* * *
К вечеру второго дня наш обоз одолел с божьей помощью переправу через один из рукавов Ветлуги – с пойменной стороны на нагорную.
По-весеннему полноводная чёрная река зыбилась недовольно вокруг мостовых быков, обнося их редкими пористыми льдинами. Мост – единственно возможное сообщение с Болонью – строили здесь с учётом половодий, но всё же порой Ветлуга разбухала так, что становился бревенчатый накат моста одиноким островом посреди могучего ледяного разлива. Нынешняя малоснежная зима не раздоилась должной глубиной – лошади добрели до моста по колено в воде, пронеся на себе поджимающих ноги всадников да протащив вязнущие в течении телеги, не замочив особо поклажи.
Обонь пол, взобравшись на крутояр, мы оглядели широкую яругу с сулемскими селищами. Рассмотреть их можно было только отсюда – со стороны Болони. А от враждебного заката они умело прятались за белыми каменистыми осыпями, перелесками да зелёными холмами. Вон и Нырища, где мы подумывали заночевать, через перелесок – Силяжь, Байстрюковы хутора спрятались в лядине, Курицын брод притулился у речки-журчалки…
Падающее за дальние холмы солнце красило белые камни и курящиеся дымки тёплым золотом. Мир казался тихим и уютным. Невесомым. Умиротворённым. Увижу ли я эти места ещё когда-нибудь?
– Вряд ли, – буркнула Вежица, останавливая рядом со мной своего старого мерина. Хытря высунула голову из пазухи хозяйки, оглядела окрестности, чихнула на солнце и спряталась снова.
Мора пристроилась к нашему поезду в день отъезда. Просто зашагала за одной из обозных телег, возникнув из ниоткуда, со своим узелком и кошкой за пазухой, даже не подумав испросить на это позволения. Заметив новоявленного походника, сотник хмуро распорядился выдать старухе заводного мерина. А она и не отказалась.
– Ты чего тут, бабка Вежица? – поинтересовалась я недоумённо.
– Надо, стал быть, – отрезала та.
Показалась она мне какой-то чужой, неприветливой. Совсем не такой, каковой знала её в Сунеженой истопке. Поэтому я подумала и не стала расспрашивать о разговоре с сотником. А ведь страсть как хотелось узнать – отчего же он после того переменил решение? Почему назвал невестой меня вместо Заряны?
Я поёрзала в седле, стараясь примостить свои натёртые долгим конным переходом телеса поудобнее, почесала нос в раздумье… Может, отойдёт ещё бабка? Взглянет на меня поласковей? Тогда и спрошу.
Тронув бока своей кобылки пятками, я помыкнула её вниз, с откоса, к тёплым избам гостерадных Нырищ.
А море я ничего не ответила. Пусть себе каркает, старая карга. Никто ж не заставляет тому карканью верить …
* * *
– Ети ж тя задери волохатого! Зенки заведёть да и прёть по ежам, лихоманка проклятая! – ругалась басом крепкощёкая девка, опрокинутая Лиходеевым гнедым у самых ворот крепкого тына Нырищ. Плюхатясь в глубокой мутной луже посреди въезжей, пугая верещащих уток, она пыталась выбраться на берег, увязая в жирной грязи.
Лиходей хохотал до слёз, хватаясь за бока. Кмети, посмеиваясь, объезжали лужу.
– На кой ляд под коняку бросаешься, дурында?
– Жениха, мабуть, ловила, утица?
– Была бы утица – ловчей бы подгребала! Кура то водоплавающа!
Раздавая проклятия весёлым поезжанам, девка выбралась из лужи и, пыхтя, бухнулась на широкий зад. Принялась распутывать мокрые завязки поршней.