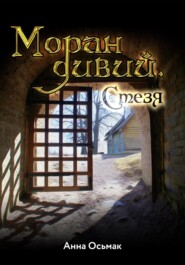По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы свернули за угол, и Межамир разжал пальцы. Я скривилась, поглаживая помятое предплечье.
– Али запамятовала уже, для чего на тебе плачея дубрежская? Для чего ты в Нырищах этих очутилась ныне с сопровождением, достойным перемского господаря?
Брат перевёл дух, смиряя раздражение. Я подалась было к воротам, но он перехватил за локоть, остановил:
– Рыся, – сказал проникновенно, почти ласково, – мало принять свою ношу, надобно осознать её. Неужто не разумеешь, что ныне собой являешь?
Ох, не говори мне этого, братец. Прошу тебя, не говори вслух! Ведь сказанное слово крепче камня – пригвоздишь-припечатаешь, после уж не перекрутишь, по-иному не вывернешь. Пусть останется невысказанным – подозрением, догадкой. Пусть я буду льстить себя надеждами на видимость благообразия творящегося…
– Аманат ты, Рыся, ныне. Аманат чаяний сулемских, надежд угрицких, тщеславия дубрежского. Многое ныне решается через тебя, нельзя в этой игре ошибок допускать.
Он помолчал, глядя на макушку моей поникшей головы.
– Мнишь, для красоты тебя кметями окружили? Думаешь, в этой игре все по одной стороне доски бирюльки расставили? Как бы не так. Есть те, кому не по вкусу происходящее. Кто совсем не жаждет мира. Кто не желает возрождения Угрицкого рода. Кто легко устраняет затыки в виде маленькой рыжей девки меткой стрелой в спину.
– Не разжёвывай мне словно младенцу неразумному, – сказала я. Голос дрогнул. Вскинула глаза на брата. Он смотрел в сторону, сквозь бродящего по двору кочета, с деловитым видом роющего влажную землю мосластыми чешуйчатыми ногами. Во взгляде княжича была тоска. Мне стало жаль его – здоровенного, сурового, родного…
– Стрела может прилететь из любого куста. Поэтому спина твоя должна быть всегда прикрыта спинами кметей… Ты уразумела, поляница? – бросил он в сторону подошедшей Держены. – Хорош в салки скакать, да по углам шептаться. Кончилось ваше детство, девоньки. Не подружанька она тебе боле, а стерегомая отныне. И до века. Поняла? Ты первая за княжну и посунешь голову свою бестолковую. Коли лишишься её – урон небольшой. Одним кметем меньше. Коли княжну не довезём – Суломань не простит.
– Тяпун тебе на язык, – прошептала я потрясённо. – Неужто жизнь человечью равняешь ты с успехом дела порученного? Ведь Держену ты с малолетства знаешь… Неужто тебе в самом деле не жаль никого?
– Народ мне свой жаль, – выплюнул он сквозь зубы. – Детей его нерождённых. Землю свою растерзанную. Предков своих, чью славную память бесчестим мы трусостью да осовелостью разума нашего сонного, погрязшего в путах закостенелости своей. Вот чего мне жаль, Рыся. А жизни, положенной за Суломань, мне не жаль. Ни чужой, ни своей. Лишь бы не зря жизни те класть, как все эти годы…
Развернувшись, он зашагал к воротам, кивнув заполонившим двор кметям.
– Межамир! – окликнула я. Он оглянулся. – Коли не довезёшь меня живою, о ком заплачешь? О сестрице кровной али о несвершившемся уговоре мирном?
Брат, не ответив, шагнул в отверзтую калитку.
На сотника я наткнулась взглядом сразу же, как из Потатиных ворот вышла. Он сидел верхами на комоне своём яром, перебирал рассеянно поводья, слушая донесение дозорных. Рядом топтался бирев нырищский с калачём на рушнике да большуха его.
Я закусила губу. Вот и приветствия должного не вышло, встречи правой, лепой не свершилось – всему бестолковость моя причиной.
– Госпожа Рыся! – пробасило из-под комля верейного столба.
За плечом толстомордой грязнухи маячило белое личико хозяйки. Она нетерпеливо пристукивала ножкой, замаявшись, видать, дожидаться.
– Рыся! – кинулась она ко мне. – Пошто долго так? Ажно проросла в землю корнями, пока дожидалась тебя!
– Я же сказала тебе ещё в Болони, что не возьму с собой! – прошипела я зло.
Ох, сдавить бы своими пальчиками шейку ейну белу, да так, чтоб хрустнуло! Жаль, силушки недостанет!
– Рысюшка, не погуби! – с придыханием зачастила Белава, обливаясь легко текучими, обильными слезьми. – Нету мне дороженьки назад. Убегла я из дому, не благословясь, у отца, у бабушки родимой не спросясь. Изверглась из рода тебя ради. Коли не возьмёшь с собой, всё одно – в дыру эту возгряну не вернусь, мира не поглядемши, лучше в Ветлугу студёну, к водяницам хладным в рученьки…
– Скатертью дорога! Там тебе, дуре, самое место!
Да скорее Ветлуга пересохнет, чем примет эту докуту Истолову! Скорее солнце погаснет, чем эта вертихвостка живота себя лишит! Уж я-то её прекрасно знаю.
– Боишься? – прищурилась Белава, упёрла руки в бока, внезапно просохшие глаза заблестели вызывающе. – Боишься красы моей, рудая княжна? Можа, опасаешься, князь в мою опочивальню по ночам чаще бегать будет, чем в твою? Меня не берёшь, возьми хоть кощу мою Зозуньку. Рядом с ней-то да с навкой этой Держеной даже ты павой помстишься! – она повернула голову и вскинула точёный подбородок. – Добре окруженьице для непродажного товара, коий ты, сотник, князю свому подсунуть желаешь!
Божежки! Неужто сотник всё это время слушал нашу грызню? Охти мне, жалице бессчастной… Возжелалось провалиться сквозь землю, да земля не приняла. И стояла я у ворот Потатовой одрины красная, растерянная, жалкая, втоптанная в грязь изящными башмачками Деяновой работы…
– Ах ты, курва аркудова, – медленно проговорила Держена, двинувшись к ней. – Я щас сделаю из тебя красавицу, таку уж расписну, словно прялка узорчата…
– Отставить, девоньки! – сотника, мстилось, ничуть не потешила устроенная на его глазах склока. Он будто о чём-то своём размышлял, прислушиваясь к нам, а ныне, видать, осенило его. Он спешился неторопливо и отвесил в мою сторону низкий поклон, забавляясь, по всей видимости, оторопью видаков.
– Позволь, светлая княжна, слово молвить.
– Отчего же, – растерянно облизнула я губы.
– Осмелюсь посоветовать оставить при себе сию вздорную девицу. Княжне в просвещённой столице дубрежей необходимо достойное сопровождение.
Не дожидаясь ответа от «светлой княжны», растерянно лупающей на него глазьми, сотник подозвал кметя и велел устроить «девицу с кощей ейной аки подобает».
– Напрасно взял ты её, сотник, – ухмыльнулся Миро, сдерживая пляшущего под ним коня. – Раздор в дружине посеешь. Это ж не девка, а погибель сущая.
– Коли понадобится мне выслушать твоего совета, кметь, тебе сообщат, – ответил тот спокойно. – Размещай воев, староста, – обратился он к биреву, – хорош тут с караваем топтаться. Торжественный митинг отменяется по техническим причинам.
– Чего отменяется? – озадаченно прошептала мне в ухо Держена.
Мы проводили сотника взглядом, да и отправились к старостину дому под охраной десятка оружных из Межамировой дружины.
Держена пнула камешек носком сапога.
– Ужо и этот угрицкий петух возмечтал на куру нашу взгромоздиться, – буркнула хмуро.
– К чему изветишь? Не таков он… – я потёрла горящие уши. Отчего слова её укололи внезапно и болезненно? Какое мне дело до развлечений угрицких воев?
– «Не таков», – передразнила поляница, бросив на меня жалостливый взгляд. – Ох, Рыся, дурочка ты моя рыжая…
* * *
Староста нырищский расстарался: пир, устроенный им ввечеру, был выше всяческих похвал.
Убранные полотном столы в общинном доме ломились от снеди, несмотря на послезимник. Весна-то она, можа, и красна, да зерном пуста – все поскрёбыши вылизаны, все сусеки выметены. Токмо широко принять гостя, накормить так, что ни вздохнуть ему, ни охнуть, напоить так, чтоб два дни после икалось – святая обязанность каждого сулема. И откуда только что берётся? Вот уж диво так диво. Сами-то по весне пустые щи на крапиве хлебают, хорошо, коли репкой заедают. Дичину и ту жалеют – плодится она по весне, зверят малых выгуливает – грех трогать зверьё ныне. Да и себе в ущерб. Но коли гостя принять выпало – тут и пироги с требухой, и калачи с маком. Хозяйка знай мечет на стол разносолы и виниться пред людьми не забывает за скудость угощения…
Вервь поклонилась княжне славными куницами, столь ладно выделанными, что в шубе, из них пошитой, не стыд и в пресыщенном Дубреже показаться.
Я благодарила общину, улыбалась большухе, кивала старосте, пила не хмелея, ела, не чуя вкуса… В чадном мареве факелов, гуле голосов, взрывах хохота, треньканье гуслей пиршественная зала мнилась наваждением. Тяжким сном, от коего должно очнуться – да затянул, не пускает. Хотелось зажмуриться и проснуться. Оказаться дома, под родным одеялом, прислушаться к сонному дыханию сестрёнок, к стрёкоту серой кошки, к возне и попискиванию её котят-слепышей и… понять, что ничего не было: ни угрицкого посольства, ни сватовства, ни злых Зоряниных слов – НИЧЕГО! Только низкое небо Болони, лесные тропки – знакомые, словно линии на ладони, – истопка в Моране, широкая Ветлуга в густой осоке…
Боги… Почто я всё это покинула? Куда полезла, поперёд собственной судьбины? К чему эта жертва? Кому эта жертва? Суломани? А что такое Суломань? Земля? Трава на ней? Небо над ней? Зачем траве и небу мои страдания? Не всё ли одно земле чьи ноги ходят по ней – сулемов ли, сили, дубрежей? За каким же Истолой мы бьёмся за неё и умираем?
Нет же. Глупости говорю. Суломань – это народ, порождение той земли и того неба – Сурожи да Сведеца. Отними у человека дом – станет он шишей презренным. Отними у народа землю – не станет народа…
Выходит, им ты должна, людям своим? Всю свою жизнь должна. За что? За то, что презирали тебя? Смеялись над тобой? Обижали тебя?
Кого ради, боги?