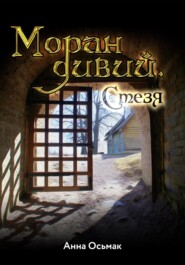По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моран дивий. Книга вторая. Реноста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ради матери, которая двух ласковых слов мне за всю жизнь не сказала? Ради Межамира, который, коли долг потребует, продаст меня и купит, а коли надо – и голову снимет? Ради Белавы? Зозуни? Лиходея? Миро? Ради какого народа, боги?
Я зажмурилась. И открыла глаза. Ничего не изменилось – сон не развеялся, тяжесть с души не стекла мутной водой… Попробовала ещё раз.
Держена покосилась на меня обеспокоенно. Я сидела между ней и братом. За спиной возвышались безмолвными идолами два кметя при оружии и в байданах. Отныне повсюду с ними. Лишь при походе в кусты братец милостиво позволил ограничиться сопровождением Держены.
Межамир молча отодвинул от меня кубок с хмельным мёдом. От него, видимо, тоже не укрылись мои гримасы.
Из рыжих колеблющихся всполохов соткалось лицо сотника, сидящего напротив Межамира. Склонившись ошую, к Белаве, он что-то говорил ей вполголоса.
Прелестная как никогда, в высоком девичьем венце с жемчужными подвесками, тонкотканой рубахе, расшитой цветами и птицами, в душегрее собольей, с перекинутой на высокую грудь золотою косой, она слушала воя, опустив пушистые ресницы, и лёгкая рассеянная улыбка блуждала на её румяных губах.
Я любовалась Белавой. На красоту такую можно смотреть до веку – глаз не оторвать. То-то кмети соловели, останавливаясь на ней взглядом. Но, правда, отводили глаза тут же. То, что сотник посадил её рядом с собой, красноречивее слов объясняло остальным, что с девкой этой никому боле не светит.
… – Гляжу, выскаквает прям на меня из-за угла вырыпень энтот, – доносилось до меня через Межамира. Рассказчик имел голос зычный, привыкший перекрикивать спорщиков на пирах и шум сражения в вольном поле. – Морда кровью размалёвана, здоровучий, аки бугай, лохматущий, аки шатун в линьке. Топориком покручивает, страшненько так порыкивает – куда как хорош! Ну я и отмахнулся от его секирушкою своея, да дале пошёл. Не успел познакомиться. Эт мне уж опосля сказывали, что непобедимого бешеного бера я походя распластал. Нету в них, балбес, ничего ужасающего, – поучал голос кого-то, кому в назиданье, должно, и предназначалась баснь сия, – скоморошество одно, кое только мальцов-первоходков устрашить может. А по мне – хоть бер, хоть хер собачий. Я тех дубрежей рубил и рубить буду! Неча меня в бок пихать, – тыркнул он сидящего рядом, – щас так пихну – рёбра в брюхо ссыпятся!
Я увидела, как сотник, отвлекшись от Белавы, откинулся спиной на срубяную стену, вытянул руки по сторонам свого блюда, побарабанил пальцами.
– Межамир, – сказал он медленно и будто бы негромко, но как-то гулко что ли, так, что голос его спокойный перекрывал гвалт и ближние выкрики. – Я не дубреж и не служу дубрежскому князю. Но дружина моя, мои побратимы большей частью из тех краёв. Боюсь, они могут не понять выступлений некоторых твоих людей. И не найти им оправдания во хмелю.
– Оправдания?! – взвился смутьян. – Эт хто ж тута оправдываться перед дубрежью собрался?
Я немного подалась назад, чтобы рассмотреть разбушевавшегося кметя из-за широкой спины брата.
– Дядько Сван, – нахмурился Межамир, – придержи язык.
– Ты, княжич, рот мне не затыкай, – кметь поднял на него тяжёлый взгляд, ржавая борода его подрагивала. Он был не молод, но могуч и справен. И всё ещё ходил в походы с князем вместо того, чтобы ремесленничать да хлеб сеять в Болони, да внуков белобрысых тешить резными свистульками. А и не было у него внуков. И жены не было, и детей, и добротной одрины на высоких сваях. Только дружинный дом да лучший меч в Суломани из наикрепчайшего и наизвончайшего булата табирского, взятый в бою много лет назад. – Мнишь, коли большуха повелела с дубрежами челомкаться отныне, коли родной дочки для сего не пожалела, думаешь все так и кинуться брататься? Знай, не быть тому! Слишком много крови между нами. Куды девать её прикажешь? Сделать вид, что не было ничего? Не было на свете никогда моих четверых сынов, а, княжич? Коих дубрежи посекли? Не было родичей моих со Сторожевых холмов, коих умучали люто? С этим-то что делать прикажешь, Межамир? На кой мне это твоё замирение? Ради чего мне с дубрежами брататься?
Он прижал к глазам кулаки, унимая злые пьяные слёзы, отвернулся.
– За ради Суломани, Сван, и людей её, кои сынов своих ещё не потеряли. Али желаешь горе своё их горем сделать?
– Ради Суломани… – буркнул сидящий рядом с дядькой Сваном воин. – За ради Суломани давно наёмники в походы ходять. Половина княжьей дружины из них. Нету, поелику, у сулемов воинов – кончились! Скоро-от одна большуха в Болони останется. Вот нехай сама и ходить за Суломань…
Даже в тёплых отблесках факельного огня было видно, как побелело лицо брата и костяшки стиснутых им кулаков. Я почувствовала холодный пот на висках и провела по лбу дрожащими пальцами.
– Кто ещё так думает? – проговорил княжич глухо.
– А многие, – ответствовал тот же воин. – Многие говорят, что княгиня довела Суломань до погибели. Местью своей за отца твого. Говорят, будто на погребальный костёр она не только Витко дубрежского положила, она всю Суломань к Истоле сраному спалила в ту ночь!
– Да ладно тебе, – откликнулся с противоположного края молодой долговязый кметь, которого Сван насчет непобедимых беров наставлял, – будто княгиня эту войну начала! Будто для радости душевной она того Витку порешила. Чай, князь-то ейный не с коня сверзился-убился, а в битве с дубрежью пал…
– Может и не она начала, – преувеличенно ровно ответствовали ему, – может, он и в битве пал. Только был тогда у ей случай с дубрежью замириться, а большуха сулемская вместо переговоров кровавую ярмарку устроила.
– Замириться?! Истола тебе, окаянному, в печёнку! Разумеешь ли что говоришь? Замириться, чтобы кем стать под Дубрежью? Данниками жалкими? Рабами бессловесными? По девке с дыму, по кунице с рыла? Полста парней кажын кологод набранцами бесправыми в войско дубрежско? Тем замириться? Легше бы стало Свану, коли сыновья евойные не за родную землю да за волю полегли, а за жито Дубрежское? Достойная замена!..
– Не тебе, соплезвон, судить что было бы, чего не было бы!..
– А ну! – Сван, оторвав руки от лица, вскочил вдруг, перемахнув через лавку, выхватил свистнувший меч. – Кто напервой – подходи, вырыпни дубрежски!
Зашипели потянутые из ножен мечи, кмети стали привставать настороженно.
Межамир перекинул ноги через лавку, поднялся тяжело, грузно как-то, стал напротив буяна.
– Ну, я напервой, – молвил он севшим голосом. – Руби, дядька Сван, авось полегчает…
Досаду на нежданного безоружного супротивника смела клокочущая ярость, прорвавшаяся глухим рычание. Ярость взметнула горящую огневыми всполохами сталь дюжей лапищей старого воя и обрушила её на голову ставшего на пути.
Завизжала Белава и взвизгнула сталь Сванова о прикрывший княжича меч Миро. Крепок оказался булат табирский, крепка рука, им владеющая, – подставленное под удар железо разлетелось осколками, зазвенев о морёное дерево стен и половиц. На рассечённой деснице Миро вспыхнул чёрной влагой разруб. Свану уже выкручивали руки, кто-то приложил его череном по затылку, угомонив старика…
Белава давно не кричала, но в ушах у меня по-прежнему звенел её заполошный визг. Будто в той звериной девичей плище воплотился для меня весь ужас, вся невообразимость происходящего.
Я растерянно повела глазами по залу. Звон продолжался, заглушая крики и брань. Испарина выступила под нарядной рубахой, перед глазами зажужжал чёрный рой диких лесных пчёл. Я с усилием мотнула головой, отгоняя их, и стала заваливаться на Держенино плечо. Последним всплеском сознания был хлёсткий ожог, полоснувший кожу на шее, вибрирующая у лица сталь метательного ножа, звонко врубившегося в резную спинку кресла, чёрный водоворот падения в пустоту и тяжесть Держениного тела сверху.
«Уведите княжну!» – кричал кто-то. Но кто? Этого я уже не поняла, проваливаясь в неудержимо заглатывающую меня черноту.
* * *
Ночной лес безмолвствовал. Видно, усыпил Сведец весенние буйные ветры, запер их в Ворчун-горе на семью семь замков серебряных, на тридесять цепей железных, дабы ничто не нарушило волшебства перехода ночи травня в ночь цветеня. Он возжёг частые звёзды на синем скарлате, сплёл из них причудливые узоры, красуясь пред супружницей своей, Сурожью цветущей…
Высоко вознесла око своё Макона, озирая юдоль земную да беспредельность небесную в напрасной надежде узреть Варуну. Молочный свет её касался верхушек тёмных елей, перебирал их ветви, пытаясь заглянуть в мрачную, дремучую глубину – может, любый просто играет с ней в прятки? Не ушёл, не сгинул за горизонтом – почему бы не подождать ему Макону горькую сегодня? Ведь она почти нагнала его… Чем крепче весна, тем меньше меж ними расстояние. Случается, удаётся ей налюбоваться на него издали, поднявшись высоко в голубом небе ещё незавершённого дня.
… Хрустнула ветка. Я вздрогнула, озираясь и… перевела дух, уразумев, что хрустнуло под моей ногой. Двинувшись наугад в чернильной темноте подлеска, я изредка поднимала глаза к светлым вершинам елей, дабы убедиться, что не ослепла. Моё дыхание, шорох травы и хруст шагов казались оглушительными в застывшем безмолвии. Но слышать их было спокойней, чем не слышать ничего.
Я шла вперёд, вытянув руки и не задаваясь лишними вопросами. То, что меня окружал Моран, я поняла сразу. Учуяла, мабуть, его особливое дыхание? Отчего бы и нет… А вот как я здесь оказалась? И зачем? Что делать дальше? В голове было легко и пусто. Я просто шла в темноте, вдыхая запахи цветущей земли, не маясь замятней по поводу окшеней и волчих ям. Мне было отчего-то покойно.
Подлесок расступился широко, открывая сверкающую под луной заводь лесного озерца. Залюбуешься невольно его призрачной красой: берегами, поросшими зорянкой; мшистыми валунами, разлёгшимися у воды большими сонными медведями; ракитами, полощущими растрёпанные космы в серебре воды; темнеющими у берега листьями кувшинок и… бледными водяницами.
В полной тишине грелись они в свете луны, подставляя ладони под лунное молоко, проливая на себя его колдовской свет. Сидящая ко мне ближе всех чесала длинные тёмные волосы, стекающие сквозь зубья гребешка, словно масло. Она повернула ко мне белое лицо с чёрными провалами глаз – пряди перетекли ей за спину, оставив одну на груди водянистою веретеницей.
«Ты пришла, рыжая княжна», – колыхнулись над головой листья.
Длинные космы, укрывающие валун под ней, играли бликами, шевелясь слегка, словно от лёгкого ветерка.
«Устала ждать тебя…», – движение воздуха, лёгкое, словно выдох, тронуло мою щёку.
– Кто ты? – прошептала я, складывая за спиной пальцы в солнечный знак и глядя завороженно в неподвижное лицо.
«Водяница горькая».
– Кем была ты?
«Морою».
– Как прозывали тебя?
«Сунежею».
– Чего хочешь от меня?