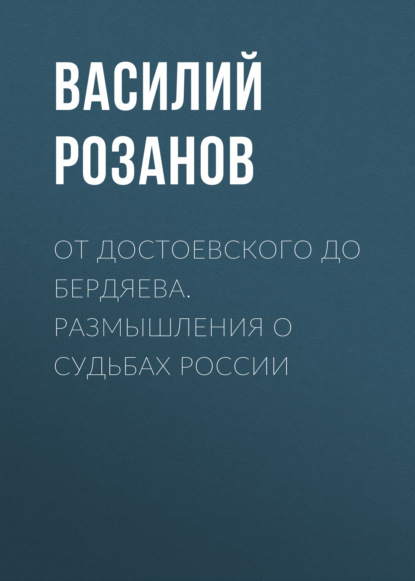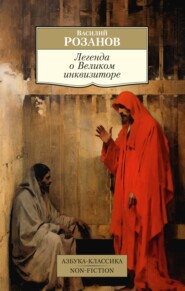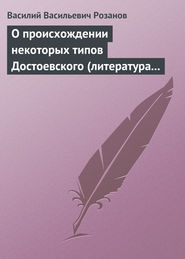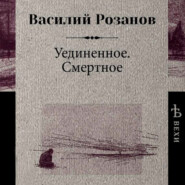По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассеялся туман и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи не робкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам.
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.
Нам думается, здесь очень точно г. Вл. Соловьев очертил свое историческое положение – как человека в момент какого-то исторического излома, в котором ему самому больно, где он занял некрасивое и неестественное положение и не может из него ни рвануться назад, ни рвануться вперед. Думается, что болящей его душе необходимы забвение, отдых, утешение – и стихи, естественно, появились как ответ на эту потребность. Но и читателя – не увлекая, они ласкают и балуют вкус и фантазию.
Памяти Вл. Соловьева
Смерть унесла в лице Вл. С. Соловьева самый яркий, за истекшую четверть века, светоч нашей философской и философско-религиозной мысли. Можно было резко расходиться с почившим во взглядах, можно было бороться против всего его миросозерцания, неприятно-старческого, сухо-аскетического, в общем эклектического[208 - В одной ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» я, указывая историческое положение Соловьева и характеризуя общий склад его ума, занятий и направлений, определил их словом «эклектизм». Покойный, прочитав эту рукопись и возвращая ее мне, сказал: «Только слово эклектизм вы заменили бы словом “синкретизм”». Считаю долгом внести эту личную поправку Соловьева, не отвергая ее, хотя и не настаивая на ней. Своего, зиждущего не было, так много у Соловьева; соединяя чужие части в новую храмину, был ли он эклектиком? синкретистом? – ужасно трудно сказать. Во всяком случае, в усилиях соединить он не был мертвенным, но не был (нигде и ни в чем) Вагнером, но и в Фауста он не вырос.], но в каждую минуту борьбы необходимо было чувствовать, что борешься с силами, высшими собственных и только минутно и странно увлекшимися поверхностными теориями. Нам думается, в Соловьеве выше его учений – его личность. Учения его менялись, но всегда в центре их стоял прекрасный человек, с горним устремлением мысли, с высшими историческими и общественными интересами, привлекательный лично и в личных отношениях. Вся жизнь его была сплошное скитальчество. В сущности, ему постоянно нужна была аудитория, слушатели; он был урожденный, врожденный учитель, didascalos, professor. В лучшей стране и в лучшую минуту истории эти его богатые инстинкты, были бы бережно утилизированы и принесли бы отечеству плод сторицею. Но, увы, русская действительность похожа на печальный сон Фараона, где тощие коровы пожирают тучных. Пришли какие-то тощие умом, послушали, не поняли и изрекли о философе и богомысле «не надо»… И «ненужный» философ пошел в продолжительное скитальчество, может быть раздраженный, наверно опечаленный, и, может быть, много горьких и ошибочных слов, слов желчных и несправедливых вырвалось у него как ответ на это «не надо»… «Тощие коровы» нашей действительности прежде всего худые политические счетчики. Они не только устранили превосходного религиозного, серьезного руководителя молодых колеблющихся умов, но и создали многолетнего и талантливейшего в литературе бойца против консервативных начал жизни, антиславянофила, антирусиста. То, что здесь было у него ошибочного, должно быть особенно легко отпущено почившему и в значительной степени объяснено превратностями его биографии.
Навсегда останется прекраснейшим в Соловьеве его высокая мечтательность. «Вот человек сухарь», говорим мы о профессоре, ученом, труженике библиотек и музеев. Ничего подобного нельзя сказать о Соловьеве. Он был мистик, поэт, шалун (пародии его на декадентов, некоторые публицистические выходки), комментатор и наряду с этим, в глубокой с этим гармонии – первоклассный ученый и неустанный мыслитель. Ничего здесь не надо исключать. И в этой-то сложности духовного образа – его заслуга, его превосходство. Думается, однако, что задушевнейшею его областью была его поэзия. Оговоримся. Почивший был несколько робок и нежен. В прозаических трудах он говорил кое-что, чего не думал, и что произносилось aci publicum[209 - Публично (лат.).]; другого, по нежности и робости, он не говорил – стесняясь. В поэзии он выступал как бы анонимом; в ее неясных звуках он дышал привольно и легко. Он любил поэзию, как любят свободу, и еще он любил ее как прекрасную форму, ибо в душе его был силен эстетический идеал. В ряду стихотворений его отметим как прекраснейшие – «На смерть друзей». Какой-то друг сложит над его прахом подобное стихотворение! Вот что, например, он писал в 1897 г. об Ап. Н. Майкове и что так идет к самому ему:
Тихо удаляются старческие тени,
Душу заключившие в звонкие кристаллы,
Званы еще многие в царство песнопений,
Избранных как прежние, – уж почти не стало!
Вещие свидетели жизни пережитой,
Вы увековечили все, что в ней сияло,
Под цветами вашими плод земли сокрытый
Рос, и семя новое тайно созревало.
Мир же вам с любовию, старческие тени!
Пусть блестят по-прежнему чистые кристаллы,
Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало.
Стихи его так хороши, что хочется их цитировать, и цитировать, как его биографический образ, как вереницу его душевных картин. Прав тысячу раз Тютчев, что все выразимое – не истинно, а все истинное – невыразимо; так и философия: хочется иногда сказать, что философы-прозаики, по несовершенству своего орудия, суть плотники-философы, а поэты суть тоже философы, но уже ювелиры, по тонкости и переливчатости своих средств. Напр., вот его «Око вечности»:
Одна, над белою землею
Горит звезда.
И тянет вдаль эфирною стезею
К себе – туда.
О нет, зачем? В одном недвижном взоре
Все чудеса,
И жизни всей таинственное море,
И небеса.
И этот взор так близок и так ясен, –
Глядись в него,
Ты станешь сам – безбрежен и прекрасен –
Царем всего.
Руководимый, может быть, очень верным инстинктом, Соловьев, по виду относясь шутливо к своим стихам, на самом деле и в глубине души едва ли не чувствовал их более серьезно, чем философскую и богословскую свою прозу, слишком обрубленную и деревянистую, чтобы выразить тонкие и не ясные движения его души. Прозу надо доказывать, а главное (в мире и в душе) – недоказуемо. Как «доказать» это чувство, выразившееся в стихотворении «Отшедшим» (усопшим):
Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.
Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая, уже звучит и веет
Дыханьем Вечности грядущая весна.
Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.
Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы в явь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам.
Теперь он ушел в эти звезды, присоединился к хору усопших теней. Он эти тени вечно чувствовал. Как, однако, доказать их бытие? Как «оправдать», через какой силлогизм, свое чувство к ним? И как объяснить вообще внешнему и не чувствующему свое касанье «мирам иным», мирам горним и лучшим? Здесь опадают крылья философии, а крылья поэзия здесь именно и поднимаются. Поэзия может быть и у Соловьева; она и была недоказуемою философиею, «метафизикою», т. е. тем, что «над физикою» в древнем греческом смысле.
Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь недоставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаясь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие. У него было мало чувства действительности, чувства земли. Имея какую-нибудь превосходную отвлеченную мысль, он обыкновенно выбирал самый неудачный пример на нее из области действительности. Так случилось, и с Пушкиным. Сами по себе все религиозные и философские идеи, положенные в основу «Судьбы», привлекательны и правдоподобны. Но Пушкин с своей печальной семейной историей запутался в эти идеи как в тенета, и общество русское, а также и сильная антикритика поторопились извлечь поэта, так измученного при жизни, из этого посмертного критического мучения. К сожалению, у Соловьева не было такта, хладнокровия и рассудительности, чтобы неверную и неудачную попытку не защищать и далее! Едва ли более успешны были его многочисленные публицистические нападения. Вообще, созерцатель по существу, поэт по темпераменту, он напрасно и бессильно бросался в борьбу. Он никому не нанес тяжких ударов; между тем, по-видимому, для его нежной натуры были тяжелы ответные удары, которые уже невольно вызывались его нападениями.
Соловьев оставил после себя до известной степени школу. Школа эта определяется кругом интересов: граница между философиею и богословием, теософия, в обширном, а не специальном и не сектантском смысле. Профессор Лопатин и особенно двое Трубецких суть талантливейшие из его полуучеников, полупоследователей. Вообще в Соловьеве было много бродила, закваски; мысли его колебались или были неясны, но они всегда и очень многих возбуждали; они давали темы, они указывали области исследования; из них очень многие уже содержат в себе исходную точку зрения и метод.
Таланты его были больше, чем успех. От чего это зависело? Темы его не были практические и не могли взволновать практические интересы; а для внепрактических интересов у нас еще нет достаточно людного общества. Вообще, общество русское – загадка. Чем оно живет? Что ему нужно? Что его могло бы взволновать, и всегда ли одно и то же его может взволновать в 20, 40, 60, 80-е годы? Германия имеет реформацию и на почве реформации, в направлении реформации всякая мысль, в XVII или XIX веке, будет возбудительна и благотворна. То же можно сказать о французских революционных идеях, об английских экономических или пуританских идеях. Но Россия? но русское общество? По-видимому, такою почвою у нас должно бы быть православие, между тем огромный ум и талант Хомякова или Гилярова-Платонова был все-таки провинциальным явлением в русской литературе, а не коренный. «Корневое» ее течение до сих пор было, как в этом ни печально сознаться, либеральное, т. е. просто бессодержательное, и лишь бы красивое. Все, что пыталось у нас определиться, сузиться в доктрину, в маленькую религию ума и сердца – просто не принималось, не прививалось к обществу. «Мы хотим, чтобы вы тревожили наше сердце, но не хотим, чтобы в чем-нибудь нас убеждали», по-видимому, говорят из общества писателям. И писателям трудно.
Нам нужно ждать событий. Литература может вырасти только из событий, и собственно все писатели, которые томятся – томятся о событии, о бытии, как роднике идеи. «Боже, зачем я существую? Боже, зачем Ты меня послал в мир?» И под Соловьевым не было непоколебимого события, которое выпрямило бы пути его и устранило колебание его биографической походки. «Вы падаете на оба колена», – упрекал пророк человеков; мы же, или те из нас, кто не лежат плашмя на земле, «падаем» на бесчисленные колена, чужие, свои, ищем, встаем, и ежедневно надеемся, и каждый день не находим. Так сплелась и судьба Соловьева, и окончательная правда его сердца состояла в том, чтобы он ни на чем не устоял. «Искал, но не нашел». И «школа» его, в смысле заданной темы, конечно, просуществует некоторое время, но она начнет теряться, как ненужный ручеек, в пустынности и безмолвии общего нашего исторического бытия. Все – безосновательно, все безбытийственно пока у нас; и нет, конечно, основания быть его школе.
Да будет прощено некоторое личное слово, не нужное читателю, но которое нужно пишущему. Мне принадлежит о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратить к нему не одно общее всем, людям надмогильное «прощай», но и отдельное свое: «прости»…
Из старых писем[210 - Начало этой статьи было помещено в ноябрьской книжке «Вопросов жизни» за 1905 г., но за прекращением журнала и невыходом декабрьской его книжки было прервано. Мы перепечатываем и это начало для сохранения цельности впечатления и даже понятности общего смысла.]. Письма Влад. Серг. Соловьева
Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. С. С-ва и перечел их, слезы наполнили мои глаза; и – безмерное сожаление. Верно, мудры мы будем только после смерти; а при жизни удел наш сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьева, его знаний, души? Ничем. Просто – прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним никогда не заговорил «по душам», хотя так много думал о нем до встречи, после встречи и после смерти. Думал о нем, когда не видел; а когда видел, совершенно ничего не думал и просто ходил мимо, погруженный во всяческую житейскую дребедень. – Когда я перечел эти маленькие писульки, где отражается его добрая и милая душа, решительная скорбь овладевает мною и жажда точно вырыть его кости из могилы и сказать в мертвое лицо: «Все было не так, что я делал и говорил в отношении тебя».
Писульки эти, собственно, не следовало бы издавать. В них нет содержания, оправдывающего право отнимать время у читателя. Но есть время и время. Бывает время работы, и его я не смею просить для этих писем; но есть время «так себе», ничем не занятое, когда тоже берется книга: отчего такого времени не попросить у читателя? Соловьева очень многие знали, многие чрезвычайно любили; и если простой почерк его писем взволновал меня, то иному безмолвному другу его может показаться милым, дорогим, памятным простой оборот его речи, как бы сказанной в комнате и без всяких особых намерений. Мне лично «литература частных писем» всегда казалась самою интересною и дорогою: интересна она потому, что если скажется в письме дело, то уже такой сердцевинной стороне своей, какая редко сказывается в книгах или, точнее, до которой в книгах никак не доберешься, надо много читать «посредствующего и ненужного»; а дорога эта литература оттого, что нигде так, как в частном письме, не скажется неуловимое, незаметное в человеке или писателе, что его характеризует. Это – как «родинка» на лице: не орган, не «черты лица», не «важное и существенное», но такое, что более всего припоминается, когда человека нет и нельзя более с ним встретиться, когда он умер или уехал и не вернется.
Все время, когда я знал Влад. Серг., я видел его усталым; и эта усталость была главною физиологическою и психологическою особенностью, которая вам кидалась в глаза. Кстати, друзья его прошли мимо краткого упрека, какой он им бросил иносказательно и почти посмертно в «Трех разговорах». Вот это замечательное место вполне автобиографического значения:
«Г-н Z. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили.
Дама. Что такое?
Г-н Z. Мой друг N внезапно умер.
Генерал. Это известный романист?
Г-н Z. Он самый.
Политик. Да. об его смерти писали в газетах как-то глухо.
Г-н Z. То-то и есть, что глухо.
Дама. Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?
Как труден горный путь и как еще далеко
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи не робкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам.
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.
Нам думается, здесь очень точно г. Вл. Соловьев очертил свое историческое положение – как человека в момент какого-то исторического излома, в котором ему самому больно, где он занял некрасивое и неестественное положение и не может из него ни рвануться назад, ни рвануться вперед. Думается, что болящей его душе необходимы забвение, отдых, утешение – и стихи, естественно, появились как ответ на эту потребность. Но и читателя – не увлекая, они ласкают и балуют вкус и фантазию.
Памяти Вл. Соловьева
Смерть унесла в лице Вл. С. Соловьева самый яркий, за истекшую четверть века, светоч нашей философской и философско-религиозной мысли. Можно было резко расходиться с почившим во взглядах, можно было бороться против всего его миросозерцания, неприятно-старческого, сухо-аскетического, в общем эклектического[208 - В одной ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» я, указывая историческое положение Соловьева и характеризуя общий склад его ума, занятий и направлений, определил их словом «эклектизм». Покойный, прочитав эту рукопись и возвращая ее мне, сказал: «Только слово эклектизм вы заменили бы словом “синкретизм”». Считаю долгом внести эту личную поправку Соловьева, не отвергая ее, хотя и не настаивая на ней. Своего, зиждущего не было, так много у Соловьева; соединяя чужие части в новую храмину, был ли он эклектиком? синкретистом? – ужасно трудно сказать. Во всяком случае, в усилиях соединить он не был мертвенным, но не был (нигде и ни в чем) Вагнером, но и в Фауста он не вырос.], но в каждую минуту борьбы необходимо было чувствовать, что борешься с силами, высшими собственных и только минутно и странно увлекшимися поверхностными теориями. Нам думается, в Соловьеве выше его учений – его личность. Учения его менялись, но всегда в центре их стоял прекрасный человек, с горним устремлением мысли, с высшими историческими и общественными интересами, привлекательный лично и в личных отношениях. Вся жизнь его была сплошное скитальчество. В сущности, ему постоянно нужна была аудитория, слушатели; он был урожденный, врожденный учитель, didascalos, professor. В лучшей стране и в лучшую минуту истории эти его богатые инстинкты, были бы бережно утилизированы и принесли бы отечеству плод сторицею. Но, увы, русская действительность похожа на печальный сон Фараона, где тощие коровы пожирают тучных. Пришли какие-то тощие умом, послушали, не поняли и изрекли о философе и богомысле «не надо»… И «ненужный» философ пошел в продолжительное скитальчество, может быть раздраженный, наверно опечаленный, и, может быть, много горьких и ошибочных слов, слов желчных и несправедливых вырвалось у него как ответ на это «не надо»… «Тощие коровы» нашей действительности прежде всего худые политические счетчики. Они не только устранили превосходного религиозного, серьезного руководителя молодых колеблющихся умов, но и создали многолетнего и талантливейшего в литературе бойца против консервативных начал жизни, антиславянофила, антирусиста. То, что здесь было у него ошибочного, должно быть особенно легко отпущено почившему и в значительной степени объяснено превратностями его биографии.
Навсегда останется прекраснейшим в Соловьеве его высокая мечтательность. «Вот человек сухарь», говорим мы о профессоре, ученом, труженике библиотек и музеев. Ничего подобного нельзя сказать о Соловьеве. Он был мистик, поэт, шалун (пародии его на декадентов, некоторые публицистические выходки), комментатор и наряду с этим, в глубокой с этим гармонии – первоклассный ученый и неустанный мыслитель. Ничего здесь не надо исключать. И в этой-то сложности духовного образа – его заслуга, его превосходство. Думается, однако, что задушевнейшею его областью была его поэзия. Оговоримся. Почивший был несколько робок и нежен. В прозаических трудах он говорил кое-что, чего не думал, и что произносилось aci publicum[209 - Публично (лат.).]; другого, по нежности и робости, он не говорил – стесняясь. В поэзии он выступал как бы анонимом; в ее неясных звуках он дышал привольно и легко. Он любил поэзию, как любят свободу, и еще он любил ее как прекрасную форму, ибо в душе его был силен эстетический идеал. В ряду стихотворений его отметим как прекраснейшие – «На смерть друзей». Какой-то друг сложит над его прахом подобное стихотворение! Вот что, например, он писал в 1897 г. об Ап. Н. Майкове и что так идет к самому ему:
Тихо удаляются старческие тени,
Душу заключившие в звонкие кристаллы,
Званы еще многие в царство песнопений,
Избранных как прежние, – уж почти не стало!
Вещие свидетели жизни пережитой,
Вы увековечили все, что в ней сияло,
Под цветами вашими плод земли сокрытый
Рос, и семя новое тайно созревало.
Мир же вам с любовию, старческие тени!
Пусть блестят по-прежнему чистые кристаллы,
Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало.
Стихи его так хороши, что хочется их цитировать, и цитировать, как его биографический образ, как вереницу его душевных картин. Прав тысячу раз Тютчев, что все выразимое – не истинно, а все истинное – невыразимо; так и философия: хочется иногда сказать, что философы-прозаики, по несовершенству своего орудия, суть плотники-философы, а поэты суть тоже философы, но уже ювелиры, по тонкости и переливчатости своих средств. Напр., вот его «Око вечности»:
Одна, над белою землею
Горит звезда.
И тянет вдаль эфирною стезею
К себе – туда.
О нет, зачем? В одном недвижном взоре
Все чудеса,
И жизни всей таинственное море,
И небеса.
И этот взор так близок и так ясен, –
Глядись в него,
Ты станешь сам – безбрежен и прекрасен –
Царем всего.
Руководимый, может быть, очень верным инстинктом, Соловьев, по виду относясь шутливо к своим стихам, на самом деле и в глубине души едва ли не чувствовал их более серьезно, чем философскую и богословскую свою прозу, слишком обрубленную и деревянистую, чтобы выразить тонкие и не ясные движения его души. Прозу надо доказывать, а главное (в мире и в душе) – недоказуемо. Как «доказать» это чувство, выразившееся в стихотворении «Отшедшим» (усопшим):
Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.
Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая, уже звучит и веет
Дыханьем Вечности грядущая весна.
Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.
Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы в явь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам.
Теперь он ушел в эти звезды, присоединился к хору усопших теней. Он эти тени вечно чувствовал. Как, однако, доказать их бытие? Как «оправдать», через какой силлогизм, свое чувство к ним? И как объяснить вообще внешнему и не чувствующему свое касанье «мирам иным», мирам горним и лучшим? Здесь опадают крылья философии, а крылья поэзия здесь именно и поднимаются. Поэзия может быть и у Соловьева; она и была недоказуемою философиею, «метафизикою», т. е. тем, что «над физикою» в древнем греческом смысле.
Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь недоставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаясь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие. У него было мало чувства действительности, чувства земли. Имея какую-нибудь превосходную отвлеченную мысль, он обыкновенно выбирал самый неудачный пример на нее из области действительности. Так случилось, и с Пушкиным. Сами по себе все религиозные и философские идеи, положенные в основу «Судьбы», привлекательны и правдоподобны. Но Пушкин с своей печальной семейной историей запутался в эти идеи как в тенета, и общество русское, а также и сильная антикритика поторопились извлечь поэта, так измученного при жизни, из этого посмертного критического мучения. К сожалению, у Соловьева не было такта, хладнокровия и рассудительности, чтобы неверную и неудачную попытку не защищать и далее! Едва ли более успешны были его многочисленные публицистические нападения. Вообще, созерцатель по существу, поэт по темпераменту, он напрасно и бессильно бросался в борьбу. Он никому не нанес тяжких ударов; между тем, по-видимому, для его нежной натуры были тяжелы ответные удары, которые уже невольно вызывались его нападениями.
Соловьев оставил после себя до известной степени школу. Школа эта определяется кругом интересов: граница между философиею и богословием, теософия, в обширном, а не специальном и не сектантском смысле. Профессор Лопатин и особенно двое Трубецких суть талантливейшие из его полуучеников, полупоследователей. Вообще в Соловьеве было много бродила, закваски; мысли его колебались или были неясны, но они всегда и очень многих возбуждали; они давали темы, они указывали области исследования; из них очень многие уже содержат в себе исходную точку зрения и метод.
Таланты его были больше, чем успех. От чего это зависело? Темы его не были практические и не могли взволновать практические интересы; а для внепрактических интересов у нас еще нет достаточно людного общества. Вообще, общество русское – загадка. Чем оно живет? Что ему нужно? Что его могло бы взволновать, и всегда ли одно и то же его может взволновать в 20, 40, 60, 80-е годы? Германия имеет реформацию и на почве реформации, в направлении реформации всякая мысль, в XVII или XIX веке, будет возбудительна и благотворна. То же можно сказать о французских революционных идеях, об английских экономических или пуританских идеях. Но Россия? но русское общество? По-видимому, такою почвою у нас должно бы быть православие, между тем огромный ум и талант Хомякова или Гилярова-Платонова был все-таки провинциальным явлением в русской литературе, а не коренный. «Корневое» ее течение до сих пор было, как в этом ни печально сознаться, либеральное, т. е. просто бессодержательное, и лишь бы красивое. Все, что пыталось у нас определиться, сузиться в доктрину, в маленькую религию ума и сердца – просто не принималось, не прививалось к обществу. «Мы хотим, чтобы вы тревожили наше сердце, но не хотим, чтобы в чем-нибудь нас убеждали», по-видимому, говорят из общества писателям. И писателям трудно.
Нам нужно ждать событий. Литература может вырасти только из событий, и собственно все писатели, которые томятся – томятся о событии, о бытии, как роднике идеи. «Боже, зачем я существую? Боже, зачем Ты меня послал в мир?» И под Соловьевым не было непоколебимого события, которое выпрямило бы пути его и устранило колебание его биографической походки. «Вы падаете на оба колена», – упрекал пророк человеков; мы же, или те из нас, кто не лежат плашмя на земле, «падаем» на бесчисленные колена, чужие, свои, ищем, встаем, и ежедневно надеемся, и каждый день не находим. Так сплелась и судьба Соловьева, и окончательная правда его сердца состояла в том, чтобы он ни на чем не устоял. «Искал, но не нашел». И «школа» его, в смысле заданной темы, конечно, просуществует некоторое время, но она начнет теряться, как ненужный ручеек, в пустынности и безмолвии общего нашего исторического бытия. Все – безосновательно, все безбытийственно пока у нас; и нет, конечно, основания быть его школе.
Да будет прощено некоторое личное слово, не нужное читателю, но которое нужно пишущему. Мне принадлежит о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратить к нему не одно общее всем, людям надмогильное «прощай», но и отдельное свое: «прости»…
Из старых писем[210 - Начало этой статьи было помещено в ноябрьской книжке «Вопросов жизни» за 1905 г., но за прекращением журнала и невыходом декабрьской его книжки было прервано. Мы перепечатываем и это начало для сохранения цельности впечатления и даже понятности общего смысла.]. Письма Влад. Серг. Соловьева
Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. С. С-ва и перечел их, слезы наполнили мои глаза; и – безмерное сожаление. Верно, мудры мы будем только после смерти; а при жизни удел наш сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьева, его знаний, души? Ничем. Просто – прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним никогда не заговорил «по душам», хотя так много думал о нем до встречи, после встречи и после смерти. Думал о нем, когда не видел; а когда видел, совершенно ничего не думал и просто ходил мимо, погруженный во всяческую житейскую дребедень. – Когда я перечел эти маленькие писульки, где отражается его добрая и милая душа, решительная скорбь овладевает мною и жажда точно вырыть его кости из могилы и сказать в мертвое лицо: «Все было не так, что я делал и говорил в отношении тебя».
Писульки эти, собственно, не следовало бы издавать. В них нет содержания, оправдывающего право отнимать время у читателя. Но есть время и время. Бывает время работы, и его я не смею просить для этих писем; но есть время «так себе», ничем не занятое, когда тоже берется книга: отчего такого времени не попросить у читателя? Соловьева очень многие знали, многие чрезвычайно любили; и если простой почерк его писем взволновал меня, то иному безмолвному другу его может показаться милым, дорогим, памятным простой оборот его речи, как бы сказанной в комнате и без всяких особых намерений. Мне лично «литература частных писем» всегда казалась самою интересною и дорогою: интересна она потому, что если скажется в письме дело, то уже такой сердцевинной стороне своей, какая редко сказывается в книгах или, точнее, до которой в книгах никак не доберешься, надо много читать «посредствующего и ненужного»; а дорога эта литература оттого, что нигде так, как в частном письме, не скажется неуловимое, незаметное в человеке или писателе, что его характеризует. Это – как «родинка» на лице: не орган, не «черты лица», не «важное и существенное», но такое, что более всего припоминается, когда человека нет и нельзя более с ним встретиться, когда он умер или уехал и не вернется.
Все время, когда я знал Влад. Серг., я видел его усталым; и эта усталость была главною физиологическою и психологическою особенностью, которая вам кидалась в глаза. Кстати, друзья его прошли мимо краткого упрека, какой он им бросил иносказательно и почти посмертно в «Трех разговорах». Вот это замечательное место вполне автобиографического значения:
«Г-н Z. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили.
Дама. Что такое?
Г-н Z. Мой друг N внезапно умер.
Генерал. Это известный романист?
Г-н Z. Он самый.
Политик. Да. об его смерти писали в газетах как-то глухо.
Г-н Z. То-то и есть, что глухо.
Дама. Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?