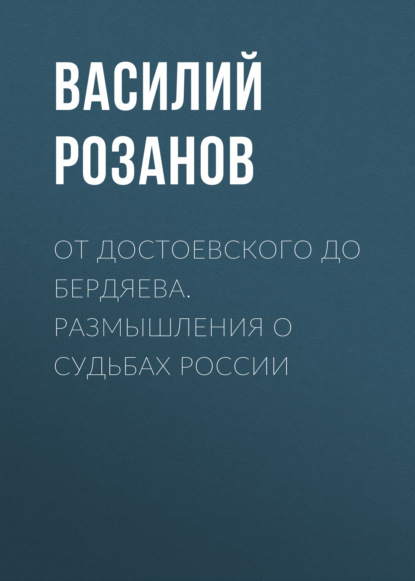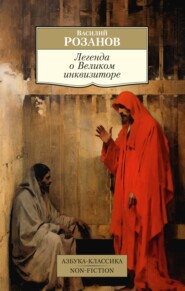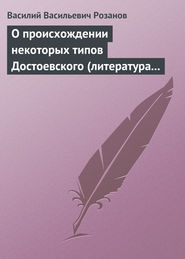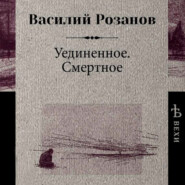По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
не умели и не умеют связываться и, очевидно, и не сумеют никогда – с Евангелием и с «распятым при Понтийском Пилате». (Несвязуемость и противоположность до того очевидны, что священник на исповеди всегда спрашивает или советует: «не пишите стихов и не читайте романов», и это – не ошибка, не бестактность, поверьте! поверьте!) Я знал одного очень образованного директора гимназии, воспитанника бурсы и духовной академии и очень долгое время бывшего потом профессором в Казанской духовной академии. Он мне говорил, что не читал ни «Анны Карениной», ни «Войны и мира» и знал только кое-что о Севастополе у Толстого; и это – просто по отсутствию духовной нужды, по отсутствию влечения. «Вот я второй раз перечитываю «Творения Иннокентия» (Таврического) и с тем же удовольствием, как в первый раз». Между тем этот, уже седой, директор был не прочь протанцевать в семейном кругу, был скорее веселый человек (хоть и очень серьезен, очень «умствен»), и вообще ни аскетического, ни монотонно-семинарского в нем ничего не было. Просто «я не люблю романа и не интересуюсь романом, а стихи для меня – рубленая солома». Но не думайте, что это личная особенность: все Средние века не имели поэзии иначе как какой-то бездушной, нервозной, и главная их поэзия есть поэзия камня (архитектура, готика) и вымысла невозможного и несуществующего (сказание о св. Граале), а не поэзия как любовь и слезы к бытию и факту; когда же появилась там поэзия земного, земных отношений и чувств, и особенно чувств живых, как у провансальских трубадуров, то она и вызвала крестовый поход и истребление веселой поэзии и веселого настроения при папе Иннокентии III и короле Филиппе II Августе. Но перебросьтесь в новые века. Шекспир вечно писал, и, кажется, поэтично: что же в нем и духе его и образах писаний есть от «Распятого при Понтийском Пилате»? – Ничего!! Да, солнце европейской поэзии полно такого заснутия (заснул и забыл), – уж простите за новоизобретенное нужное словцо, – заснутия христианства, что просто дрожь наводит: у него есть «ведьмы», «Калибан», «Ариэль» (а Иисуса и ничего Иисусова – нет, нет и нет!) То же у Гёте и Шиллера, которые чем угодно тревожатся, но не «Писанием», и, напр., Шиллер написал «Юноша из Саиса», «Церера», «Гимн радости», а не написал «Юноша из Лорето», «Св. Варвара Великомученица», «Радость отшельника» и пр. Самые темы показывают, чем люди были заняты, и это суть первые люди, первые солнца европейской поэзии. Таким образом, вся европейская поэзия за какими-нибудь бледными и искусственными исключениями, вроде «Грешницы» и «Иоанна Дамаскина» Толстого, уже сейчас есть (Анти-Иисус, т. е.) Анти-Христова песнь; и это было бы еще с полгоря, но беда, и настоящая, начинается с факта, что ведь, напр., у Шиллера есть чарующее благородство, у Гете – беспросветная глубина, у Шекспира – живописность, жизнь, глубина же! Я не читал «Потерянного рая» Мильтона, но мне запомнились где-то когда-то прочитанные слова, что, собственно, ярок и обаятелен там – сатана, а о Боге – мало и бледно. Значит, тоже вроде «Демона» Лермонтова. Вот несколько штрихов, которые я не могу здесь развить, но мог их богато выразить и орнаментировать Вл. Соловьев, раз уже он взялся за эту тему. Мысль «христианского искусства» глубоко занимала все великие умы в Европе, но подите в Эрмитаж и пересмотрите всю школу итальянцев, испанцев и голландцев: и как ни часты там библейские и евангельские сюжеты – просто этих картин нельзя внести в церковь? Не станут молиться помнящие о «Распятом при Понтийском Пилате»; но ведь художники-то, рисуя, молились на свои сюжеты, образы, молились в воображении, и вот опять выскакивает строчка Лермонтова:
И в небесах я вижу бога… –
до очевидности «бога» с маленькой буквы, если нельзя внести в церковь. Вот вам и загадка. Вот вам и тема для Соловьева. Все время существования Европы, кроме Дня Христа, была какая-то «ночь» – бог, к которой, не называя имени, неслась вся европейская поэзия, живопись. Я просто констатирую факт, и даже меньше – только подчеркиваю то, что, в сущности, каждому с первого класса гимназии известно, ибо кто же не знает, что Савонарола чувствовал потребность жечь картины, а исповедники советуют не читать романов и стихов… И ведь что романы; никак нельзя отрицать, что в романах этих, вообще запрещенных к чтению и «грешных», есть страницы изумительного тоже умиления, кротости, нежности, доброты. Сказать, что все романы злы и построены на началах злости и пробуждают в читателе злость, – просто чепуха. Но если там есть «добро» и вместе с тем – читать их есть «грех», значит, есть какое-то «второе добро», «еще Бог» (И уж конечно, если это не от Иисуса и не Иисус, – значит, анти-Христово).
Значит, мир, как об этом и учит совершенно непререкаемо само христианство, разделяется уже сейчас на «царство Христово» и «царство анти-Христово»; а что, говоря это, проповедники нимало не ошибаются и только выражают собою Евангелие, очевидно из весьма принципиальных слов Христа: «Царство Мое – не от мира сего». Шекспир, Гёте, Шиллер, Лермонтов до такой степени «от мира сего», прилепились к нему бесконечно и с невыразимым умилением разрисовали его, что до последней степени ясно, что они точно ставят вне таинственного «Царства Его». «Царство Его» – и нет Дездемоны, нет Офелии, – это очевидно! Но тут начинается раздирание нашего, по крайней мере моего, сердца: я люблю Дездемону! Люблю и люблю! И люблю не тогда, когда она сделается монахиней, а люблю в привязанности ее к Отелло, сейчас и такую, как она есть, без покаяния. И тут, насколько я люблю землю, уже во мне, значит, самом начинается антихрист, и насколько мы вообще любим наших жен – Дездемон, наших дочерей Офелий, и вообще милое, ласковое, улыбающееся и грациозное на земле, – мы вне «Его царства» и во власти… ну уж применим термин – «анти-Христа». Вот вы и разбирайтесь. Да ведь и соответственно этому прямо есть слово к нам: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 26). Вот ясное разделение Христова и анти-Христова. Нет, святые отшельники Фиваиды и Соловок, убегая в ледяные и знойные пустыни, знали что делали. Но…
…Генрих! Генрих!
Это кричала бедная Гретхен в тюрьме, и вот, на месте Фауста, я уж лучше бы с антихристом остался, но эту возлюбленную женщину в такую минуту и в таком месте не оставил бы. Просто есть пункты и секунды, и притом вовсе не случайные, а вечные (принципиальные), когда бедное мое земное, а, пожалуй, даже и небесное «я» принуждается, – и принуждается совестью и законом ее, – последовать не «царству не от мира сего», но «царству мира сего» и, следовательно, открыть в себе, в каждом нашем «я», то разделение Дня-Ночи, которое так дурно уловил г. Вл. Соловьев в «Книжках Недели» и в зале городской думы.
На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьева
Среди всех литературных фигур наших нет ни одной столь… сложно составной и трудной для понимания и оценки, как всем знакомая и вместе едва ли кому известная фигура автора лежащей перед нами изящной книжки стихов. У Вл. Соловьева, очевидно, не один дар; настойчиво хочется сказать – в нем не одна душа, по крайней мере не одно настроение. Перед нами специалист-ученый, специалист-публицист, специалист-богослов и вовсе не притворный и не деланный поэт: какое обилие призваний, тем. Преобладающий интерес к богословствованию сближает его с Хомяковым, но Хомяков весь – в служении России, между тем как до очевидности ясно, что у г. Вл. Соловьева Россия ни в одной области его занятий не занимала первенствующего места, не была prima donna, но всюду становилась на второе, подчиненное и служебное место. Это в свое время вызвало наибольшее критическое ожесточение против него. Всем казалось странным и немного циничным, что такого ископаемого мамонта, как Россия, человек нашего текущего дня и нашего текущего общества обращает в передаточное колесо механизма, пусть бы даже замечательных своих идей, но все же, по происхождению автора, идей русских, а не сверхрусских. Но не будем критиковать, а станем характеризовать. Чтобы найти параллель Соловьеву, мы должны пойти в чужеземные истории, выбрать эпоху или критического перелома, или вымирающего эклектизма, не вернее и правдоподобнее первого: народ ломался, время ломалось: в точке излома совершалось величайшее движение, тут была великая талантливость и вместе полная неуверенность в себе, непонимаемое «сегодня», незнание, что будет «завтра». И вместе из точки этого исторического разрыва торчат безобразные углы, колющие шипы, вообще неприятное и болезненное. В силу самого характера такой минуты человек не знает, что значит служить своему народу и может в такую минуту предатель сойти за патриота, а патриот может не только сойти, но и быть в самом деле предателем. Тут – исторически темно; темно идущему и темно его критикам.
Нам кажется, так лучше всего объяснить его удивительнейшую судьбу. Мало было в нашей литературе людей, которые бы столь единодушно приветствовались при появлении, как г. Вл. Соловьев в семидесятые годы, когда он чуть не 23-х лет выступил как доктор философии с «Кризисом западной философии против позитивизма». Солидные, заслуженные ученые, как Б. Н. Чичерин, отвечали целыми трактатами на диссертацию. Все ему улыбалось тогда и все на него улыбались. И потом долгие годы общество русское в высших образованных его слоях, по-видимому, делало все усилия, чтобы как можно долее прощать ему, забывать его ошибки, ожидать от него поворотов к лучшему. Никого так упорно множество людей не хотело непременно любить. Но тут стало происходить что-то, очевидно высшее и сильнейшее, нежели частные произволения. Дело в том, что г. Вл. Соловьев не только не равнодушен к… «психологии толпы», но его душа как бы сейчас только обнажилась от испанской мушки и чувствительна к укусу комара, как бы это был удар шила. Казалось бы, при такой гармонии между впечатлительностью писателя и готовностью общества от него все ожидать и ожидать – он должен был лечь счастливо в свою ячейку, охорошиться в ней, созреть, утешиться и сотворить жизнь, достойную своих талантов и радостную для своего времени. Между тем с каждым шагом вперед он делает что-то до такой степени неправильное, изломанное, прямо неестественное, что ожидания всех мало-помалу стали переходить в отчаяние, привязанность в раздражение и, наконец, в явное неуважение, а у сколько-нибудь его любящих, вероятно, поднималась глубокая скорбь… В самом деле, были у нас фигуры в литературе ненавидимые; но, вероятно, множество читателей согласится со мною, вдумавшись, вглядевшись во впечатление истекших лет, что фигура Соловьева поразительна тем, что около нее скопилось множество не негодования, а… неуважения, неуважительных, пренебрежительных чувств, взглядов, мнений, отзывов. И что еще поразительнее – этот упадок уважения нисколько не выражается в желании отнять у него дарования или отвергнуть его заслуги, даже ограничить его успехи. «Ты успеваешь; мы тебя приветствуем; но мы совершенно холодны к твоим успехам, и нам не нужны ни эти успехи, ни ты сам».
Тут… какая-то историческая бесовщина; но, вероятно, многие согласятся со мною, что действительно мало есть людей и даже вовсе их не было, которые, занимая столь видное положение в поле зрения своего времени, были бы так глубоко инородны, чужеродны, почти чужестранцы для людей этого времени. Сколько у нас до сей минуты любви к Баратынскому, поэту-философу; Гл. Успенский имеет, может быть, очень тесный, но зато фанатический культ к себе; Писарев, Добролюбов все это точки притяжения национальной любви. Вот этого центра притяжения не образует г. Вл. Соловьев. И этому вовсе не препятствует, что его работами по богословию и философии пользуются и будут пользоваться. Тут есть что-то странное. Масло и вода не сливаются. Вообще есть вещества, не образующие никакого из себя соединения. Россия или, по крайней мере, русский ум, русская душа и стоящий перед нею данный человек не сливаются и не образуют никакого нового соединения.
Заслужил ли он этой судьбы? Можем ли мы сказать, что он не любил своего отечества? Позволю высказать один каприз своей догадки. Невозможно, конечно, доказать, но как-то можно чувствовать, что если бы в роковую минуту вдруг нужно было прямо умереть, погибнуть за Россию – жизнь за жизнь – странная эта и непонятная фигура прямо бросилась бы в пропасть, как какой-то римский воин в битве, бросился в какую-то роковую расселину земли и тем спас Рим. И без фразы, и не потому, что на глазах общества, а даже – ночью, невидимый и без вознаграждения. В г. Вл. Соловьеве есть что-то предопределенное, роковое; неуклонное для него. «Судьбы на коне не объедешь»: и это относится именно к печальным и двусмысленным сторонам его полета. Но почти бесспорно потребность любви и жертвы в нем обитает огромная. Любит ли он Россию? – Конечно, да! – Бога? – Конечно и конечно! Истину, науку, философию? – Опять, да! Но служить ничему он tie умеет. И не умеет… охватить никакой цели. Золотая голова, серебряная шея, медная грудь… и, дальше – железо, кирпич, песок, глина, плохо, хуже и хуже. Так виделся какой-то бессильный сон Навуходоносору.
У Достоевского в его смутных «Бесах» есть одна фигура, которую замечательно характеризует другое лицо, – «Если Ставрогин верит (положим, в Бога или во что-нибудь), то он не верит, что он верит; а когда он не верит, то он не верит, что не верит». Выслушав это странное определение целостной натуры, ее «святая святых», третье лицо говорит, что это определение «довольно глупо». Но, однако, почему же глупо? Я думаю, такая «простреленность» души скептицизмом должна, между прочим, порождать в человеке глубокое и постоянное смятение ума и чувств, соединенное с ледяным равнодушием сердца. Но вот если бы столь очевидная и короткая вещь, такое 2 + 2 = 4, как броситься в пропасть за отечество – то геройское движение великим скептиком было бы совершено.
Еще одно и последнее замечание, относящееся к общей литературной физиономии г. Вл. Соловьева. Говорили, и много раз, почти постоянно, что г. Вл. Соловьев «перешел в лагерь либералов для популярности» и что таков был мотив его перехода из «Русского Вестника» катковской редакции и из аксаковской «Руси» в «Вести. Европы». Однако почему же? Консервативная популярность так же сладка, как и либеральная; а в смысле сфер влияния и обширности популярности, конечно, впереди либерализма у нас всегда стоял радикализм. «Вестн. Европы» никогда не был сладко-любимым органом печати; он читался, и обширно, но он не имел аудитории заслушивающейся, читателей зачитывающихся. Между тем можно подметить, что если Вл. Соловьев ищет быть любимым, то горячо и интимно, а не в смысле просто известности. Далее, консерватизм есть стояние; это – status quo; между тем даже из такой мелочи, как его постоянные, в сущности, путешествия (см. темы его стихов), то в Норвегию, в Шотландию, во внутреннюю Финляндию, в Архипелаг, Египет (немножко похоже на старшего сына Владимира Св.); – даже из этой географической непосидчивости, с которой ни малейше не расходятся и все его остальные способности и дары, как бы не сохраняющие устойчивого равновесия, – очевидно, что он и не мог иначе, как случайно и минутно, или, пожалуй, «для хитрости», находиться в лагере ожесточенного стояния на месте. Он мог быть не искренен в «Русск. Вестнике»; но в «Вести. Европы» он искренен.
Было бы неблагоразумно и грубовато ожидать от человека, который столь большую долю усилий и жизни посвятил философствованию, богословствованию и общественной борьбе, чтобы он в то же время был выдающийся поэт. Мы, во всяком случае, благодарны, что он «и поэт». Ксенофан, греческий философ, изложил свое афористическое и, однако, глубокое мышление в нескольких стихотворных отрывках; Парменид написал поэму, выразившую в двух половинах «мнения смертных» и его собственные философские открытия; пифагореец Филолай изложил мистику чисел, непонятную и в прозе, и с комментариями, тоже в стихах и без всяких комментариев. На наш лично взгляд, плох тот человек, который не писал стихов; и плоха та философия, в которой пи одна часть не просится в стихи. В Средние века писали множество научных стихов, и, между прочим, в стихах излагали даже арифметику. Кажется, единственный род словесных и умственных произведений, никогда не оканчивавшихся рифмами, – это проповеди. По всей совокупности этих данных нет ничего безвкусного соединять серьезную, даже философскую мысль с стихотворною формою; но в данном случае мы нисколько не имеем перед собою философем, изложенных вместо прозы стихами, а блестки и веяния настоящей поэзии, совершенно невыразимые или едва ли выразимые прозою.
На вопрос, почему люди пишут стихами, а не прозою, можно действительно дать этот общий ответ, что стихи есть особенная и новая форма для содержания тоже особенного и нового. Напр., что вы сделаете в усилиях переложить из ритмических строчек в неритмические следующие нашего поэта-философа:
Ступая глубоко
По снежной пустыне сыпучей
К загадочной цели
Иду одиноко.
За мной только ели
Кругом лишь далеко.
Раскинулась озера ширь
В своем белом уборе,
И вслух тишина говорит мне:
Нежданное сбудется вскоре.
Лазурное око
Опять потонуло в тумане,
В тоске одинокой
Бледнеет надежда свиданий.
Печальные ели
Темнеют вдали без движенья,
Пустыни без цели
И путь без стремленья
И голос все тот же
Звучит в тишине без укора:
Конец уже близок,
Нежданное сбудется скоро.
У г. Соловьева нет сильного стиха. Вообще в поэзии – он рисовщик красивых фигур, образов, положений. Если бы в нашей воле было сочетать облака на небе, передвигать их и группировать – это могло бы нас занять, могло бы занять художника-созерцателя. Таков и есть Соловьев: из тумана мыслей, несильных волевых движений, воспоминаний и ожиданий он ткет фигуры, сцены, случаи, всегда бледные, но часто изящные и привлекательные.
В стихотворной его манере есть черты родства с гр. А. Толстым. Неудачнейшие стихи – те, где он пытается шутить, что всегда у него выходит неуклюже. Таково «Скромное пророчество» или в серьезном по теме стихотворении: «Три свидания» – воспоминание о первой своей в девятилетнем возрасте любви, когда о предмете этой любви ему объяснила бонна:
Володенька – ах! слишком он глупа!
Конечно, немцы ломают наш язык; но зачем передавать это нисколько не в колоритном стихотворении. Это – лишнее в теме, а следовательно, и мешающее ей. Лучшие раковинки его поэзии, в которых нарастает жемчуг, находятся на границах религии и философии. Таково «Око вечности», «Умные звезды», в особенности последние его строчки, «Земля владычица, к тебе чело склонил я» или, напр., эта мистически-неясная Песня офитов» (одна из темных сект времени появления христианства):
Белую лилию с розой
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.
Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
Вольному сердцу не больно…
Ей ли бояться огня Прометея?
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про ярые грозы
В ярой грозе мы покой обретаем…
Белую лилию с розой
С алою розой мы сочетаем.
Стихотворение заинтересовывает нас каким-то содержательным намеком, который мы боимся отгадать. Что это за жемчуг в чаше? Какая голубка, откуда змей? Какой мир между ними и даже, по-видимому, дружба? Но нельзя отказать в яркости и красоте, даже, кажется, в задушевности, стихотворению.
Вообще поэтическое чувство нашего автора, который в прозаических трудах кажется усердно-точным защитником верований самых ортодоксальных и почти по параграфам, тянется… к очень далеким берегам, и не прочь приотворить дверцу иногда самого темного и сомнительного сектантства. Хорошо, хоть тоже сомнительно по источнику, стихотворение «Из Платона»:
На звезды глядишь ты, звезда моя светлая:
О, быть бы мне небом в широких объятиях
Держать бы тебя и очей мириадами
Тобой любоваться в безмолвном сиянии.
Стихотворение «Das Ewigweibliche»[206 - «Вечно женственное» (нем.).] (слово увещательное к морским чертям) вовсе не так дурно и не смешно, как о нем высказывалось в печати при первом появлении в 1898 году. Г. Вл. Соловьев верит в какую-то или предполагает какую-то небесную женственность, которая может прийти или придет на землю. Ею он и заклинает, ею и отгораживается от «морских чертей». В подобных случаях мы читаем: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…», а наш философ опять несколько не по-православно поет:
Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мной они по следам,
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаге я – они уже там.
Ясно, что черти хотят моей смерти
Однако поверьте
Вам я себя на съеденье не дам.
Лучше вы сами послушайтесь слова –
Доброе слово для вас я припас.