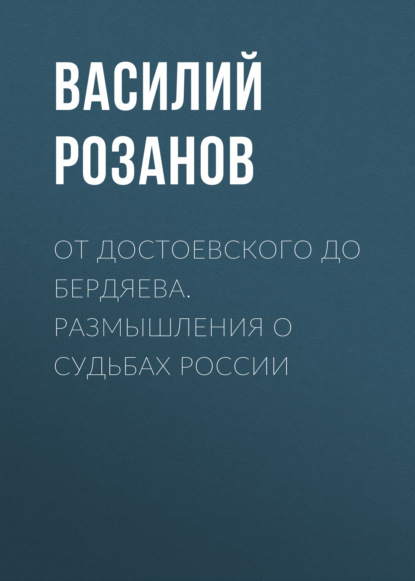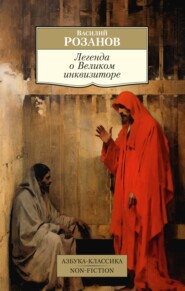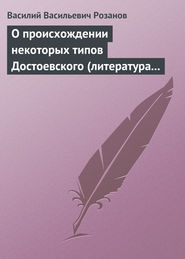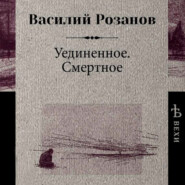По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне хочется, в виду совершившегося унисона, расчленить звуки каждого и взвесить их тяжесть. Я этого не сделал, отвечая г-ну Вл. Соловьеву, ввиду почти отсутствия у него каких-либо возражений по существу вопроса; теперь попытаюсь собрать крохи его умствований, и пусть оценка их принадлежит читателю.
Против утверждения моего, что свобода без отношения к достигаемому объекту, без веры в выполняемое назначение, хаотична, бессмысленна и для всякого человека не нужна, «безвкусна», он, как бы не чувствуя указываемого в ней момента веры, говорит, что и вне этой веры, лишь в разрушительных целях, она нужна и сладостна для человека. Он сравнивает ее с «воздухом, который всегда и всюду нужен»[146 - «Вестник Европы», февраль 1894 г., с. 910.]; по ведь для живого нужен он, для легких, которые его тянут в себя, и не нужен разлагающемуся трупу, неподвижной груди, не нужен ничего с силою не утверждающему индифферентизму; а для веры – я же для нее требую свободы, во имя этой ее веры, в границах ее утверждения. Воздух для не дышащего есть только момент скорейшего разложения; его удаляют от трупа, когда последний хотят сохранить; и неужели, неужели в странах преимущественной свободы, как западные, как Америка, не видно и преимущественно быстрого разложения всяких остатков прежней веры – религиозной, философской, политической? Везде и все великие исторические организмы там умирают; и если момент умирания в них порожден иссякновением в себя веры, быстрота этого умирания обусловлена избытком не вдыхаемого, не нужного и только заражаемого «воздуха»
Этот принцип так ясен и тверд, что, сбиваясь в словах, путаясь в мыслях, мой противник, как только его формулирует, невольно впадает в согласие: «Иудушка утверждает, что только вера имеет право на свободу; только поверив, он говорит, я могу требовать некоторой свободы. Положим так: насколько дело идет о свободе исповедания и проповедания, само собою понятно, что кому нечего исповедовать и проповедовать, тот и в свободе для этого не нуждается»[147 - «Вестник Европы», февраль 1894 г., гл. III, возражения – там же.]. Он думает, факт проповеди, выражения словесного, физического действия уже implicite заключает в себе факт веры; но во что же была вера, к какому делу были приставлены, что им нужно было, когда, видя идущего мимо лысого пророка, мальчишки бежали за ним, ругаясь и издеваясь, и он проклял их? В чем помешала Вольтеру Жанна д’Арк, что он написал на нее памфлет? И не видим ли мы всюду праздных людей, которые в то время как строители строят, кладут камень за камнем, – хотя около постройки сбрасывают за камнем камень, ибо день ясен, солнце печет, и зачем бы это здание, для кого и с такими прочными станами, массивными сводами? И так каждый безверный, выполняя закон всякого существа – трудиться, не имеет перед собою предмета собственного труда, цели своего созидания, этою целью, этим предметом избирает чужой труд и его разрушает: делом, и когда нельзя, пока нельзя – хоть словом, издевательством, доказательством ненужности данного труда.
И, забывая далее историю, не имея логики, мой критик продолжает: «если, однако, факт веры дает право на свободу, то, при множестве разных существующих вер, каждая из них будет иметь одинаковое право со всеми, что и называется веротерпимостью». Но кто же в верующей толпе скажет: «есть много разных существующих вер»; и апостолы, юная церковь Христова, идя, в языческий мире, разве останавливаясь перед капищем Юпитера, спрашивали: «не заглянуть ли туда, может быть Юпитер жив?» или крестоносцы, придя на Восток, спрашивали: «не в самом ли деле был пророк Магомет?» и разве Бруно, входя в смысл его осудивших, задавался вопросом: «не правы ли они и я не ошибся ли?» Нет, это были все, как они ни различны, люди веры, и у каждого верующего есть одна вера, нет пантеона, куда он сносит со всего мира умерших богов, чтобы всем им равно воздать курение и никому не отдать сердца.
Факт одной веры у всякого, кто живо ее ощущает, моему критику представляется возможным лишь для дикаря; забывая, не понимая (безверный сам), что не за «одну из многих возможных вер» страдали мученики, всходили на костер праведники науки, он говорит: «это – закон, которому следовал в своей жизни африканский дикарь, говоривший миссионеру: когда у меня уведут жен и коров – это зло, а когда я уведу у другого – это добро»[148 - «Вестник Европы», с. 911.]. И ему кажется, что «не иначе рассуждает всякий зверь и всякая птица»[149 - Там же. «Иудушка клевещет на православную церковь» – так озаглавливает в роли ее защитника четвертую главу возражения против «Свободы и веры» г. Вл. Соловьев.]. Факт, совершаемый вне сознания добра и зла, он здесь не различает от веры исповедуемой; ему кажется, истина в глазах каждого должна двоиться и троиться, и, читая свой символ, всякий должен вплетать в него слова и всех других символов: тогда речь будет обильна и правда где-нибудь уловлена. Конечно, и вероятно даже, но тот, кто произносит такой символ, конечно, не верит ни в который и равно разрушает все.
Ему кажется непонятным, чтобы как он свой, церковь не путала свой символ с чужим; ее вера – для него непостижима, и мое утверждение, что в церкви эта вера есть, ему представляется «клеветою»[150 - «Вестник Европы», с. 912.]. Как он, заглядывая во все капища, колеблется между Спасителем, Гартманом, экономистами, так, ему думается, и церковь к ним всем равно прислушивается, и самое большее, что делает, что вправе делать – это склонять к одному внимание преимущественно перед другими. Чтобы и к «капищам» была у нее нетерпимость – «этого мы еще ни от кого не слыхали, кроме Иудушки», «против этого свидетельствует даже Л. Тихомиров, заявляющий: конечно, терпимость есть правило самого православия». Он кротость, милосердие к греху смешивает с неведением, что есть грех; и требует, чтобы церковь, болящая и страдающая о грехе, пришла и разделила с ним любование на этот грех. «Простить» для него есть непременно не поднять руки, удержать всякое к этому движение в себе; но ведь и мать прощает дочь свою погибшую, – однако, предвидя ее гибель, если бы, она отстранилась и стояла в стороне, лишь созерцала эту гибель, конечно, она была бы для нее не мать, и даже менее, чем только посторонняя; после греха и при раскаянии простит, слиться в слезах даже с преступником, вернувшимся к истине – это должна мать, к этому обязана и даже влечется своим законом церковь; «сердца сокрушенного» не уничижит Бог, но уничижит несокрушенного, смирит гордое даже и в грехе; так было; дурно, что не есть; так будет; и этому должна следовать Богом руководимая церковь. Грех – то, в чем все ее чада тонут, и церковь есть рука, из этого греха всех поднимающая. Удерживать ее руку, указать ей лишь созерцание – значит закон своего холодного, индифферентного сердца странным образом принимать за закон Бога. И ни с чем другим кроме как с грехом церковь не имеет соотношения; напрасны усилия подсунуть ей таблицы мер и наказаний, сказать «не менее», указать – «не далее»; и малое, и большое, и далекое, и близкое содержится «в ней самой, определяется ее нуждою спасать, чем, как – не мы, спасаемые[151 - И не все, во что, помимо церкви, мы слагаемся как в союзе. Древнейшая, чем всякий союз, и по корням своим не связанная ни с каким, – не связанная ими в душе каждого верующего, в ските уединенном, в монастыре – если она и стесняется иным каким союзом, как бы ущемляется исторически, – конечно, это временно, не носит в себе никакой необходимости, кроме, быть может, нравственной в отношении верующих: как наказание за их слабоверие для укрепления их в вере.], ей укажем.
II
Понимая все формы религиозного сознания как искажения или недоразвития до собственного, церковь не может допустить[152 - Мы возражаем на требования г. Вл. Соловьева и говорим о нашей стране, нашем православном народе.], чтобы ее чада из полноты возвращались к недостатку, из прямого становились кривым. Вера яркая чтобы становилась тусклой (протестантизм), истинная – ложною (католичество), что за странное усилие, к чему оно, к чему самый о нем вопрос – у верующего? А кто не верует – уже не в церкви, те, в силу исторического отношения вещей – не в том, что составляет ее часть, ею было согрето, выношено, взращено: не в народе своем и не в стране. Не может церковь верующая включать в себя и то, что не есть верующее в нее; и как Восточная католическая церковь, наравне со многими другими странами и народами, объемлет и наш, – всякий, кто из нее как целого вышел, вышел и из всякой ее части, народа, страны, царства. Цельность, которую мы так понимаем в индивидууме, не отвергаем совершенно в обществе, неорганизованном и признаем вообще во всяком союзе, – более, чем в каком-либо из них, есть в церкви. Она есть вечный союз человека с Богом, только момент, в котором есть наша земная жизнь, часть – и страна наша, и народ, его история, и по нитям которого тянется жизнь каждого из нас, звуча совместно с другими в одном аккорде. Струна порванная сбрасывается с инструмента и заменяется новою; пусть она еще струна, и даже – две коротких с четырьмя концами: здесь и теперь она не нужна, и кто в ней нуждается – пусть подберет ее, но отсюда она должна быть сброшена. Есть совесть, есть грех, есть возмещающее страдание не для лица только; разве эпоха не может быть преступна? народ, поколение разве не терпит иногда за то, что совершено было иным поколением? Итак, молиться, страдать, размышлять человек может не индивидуально только, но и в собирательном множестве своих моментов, как струна звучать – не только одна, но и в гармонии со множеством других. Смысл индивидуального существования темен для каждого; яснее этот смысл для народа, и в нем каждый может отчетливо понимать себя; окончательно ясен он в церкви, и в свете его могут читать себя народы, в них – индивидуумы. Вне этого – темнота, ночь; книга с перемешанными страницами изстриженными, разбросанными. Кто хочет – может собирать их, разгадывать; не к чему требовать внимания к себе других.
III
Но вот из этих струн некоторые хотели бы и не звучать, или звучать вне согласия с другими, и вместе занимать между ними положение, отвечающее не достоинству струны, но только издаваемого ею звука. К чему это, возможно ли, какой нужде остальных струн, какой нужде, благородной в самой замолкнувшей или дребезжащей струне может это отвечать? Не как физический организм нужен я истории, и было бы унизительно для меня, бессмысленно для нее, если бы было так; но как деятельность некоторая и внутренний ее родник, моя душа – вот что нужно ей, и это как возвышает меня, так и осмысливает ее. Снять эту печать мысли с истории, достоинство с меня, – какая нужда для меня, для кого-нибудь: мы все влечемся именно к этой гармонии, этому слиянию в созвучии, а не к существованию бок о бок, один возле другого. И лишь физический протест нескольких обрывков, которым здесь и теперь, между звучащими, хотелось бы без звука или с звуком бессмысленным быть, – конечно, этот протест презрен и не может быть принят в какое-либо внимание. Нам говорят о страдании, нам говорят о «свободе»: есть худшее, чем оно – молчание, есть лучшее, чем она – мелодия, Кто, видя историю, захотел бы «свободно» смешать ее процессы и, смешав, этим смешением остаться сыт? Конечно, мы все, весь род людской, этого не допустим: страдать нам указал Бог, молчать может принудить только смерть. Мы все природою своею благородною принуждены; мы подзаконны; и как подзаконный тесный брак лучше блуда, мы этот блуд ему не предпочтем.
IV
Какое низкое понятие о счастье – что оно в сытости, не очень большой усталости и хаотической свободе заключено. Разве нельзя быть счастливым, и гораздо выше, гораздо полнее, при абсолютной стесненности, когда знаешь, что эта стесненность отвечает чему-то великому, нужна тому, что останется и после меня вечно жить? Толпа разбежавшихся дезертиров, инструмент с порванными струнами, огород с поломанным забором, куда идет каждый за нужным себе овощем, неужели, неужели этим только живет человек, это одно, будто бы, ему нужно, одно и выражает, и может удовлетворить его, – что же, изнеможенную уже – природу? И неужели для этого только он на земле? всегда для этого, как был прежде, так и останется? Но ведь в виду каких-то определенных звуков устраивался инструменте, для какой-то цели были собраны разбежавшиеся теперь, и огород насаждался же кем-нибудь и для чего-нибудь? Есть нудящая мысль в истории; ей можем ответить мы и в этом ответе найти высшую для себя радость; если, однако, и не ответим – понудимся, но уже как стадо, гонимое – куда, оно не знает само. Разве в самом хаосе, который один мы почему-то любим, к нему одному влечемся, ног давно уже чего-то принудительного для нас? Кто имеет силы в нем остановиться, как-нибудь ему воспротивиться? Какое ожесточение на лицах всех при мысли, что этот хаос может быть и не вечен, – он, который и на минуту так мало может истинно насытить кого-нибудь. Мы все давно не свободны – в безобразном; быть несвободным в прекрасном – вот что кажется нам ужасно, и самая мысль об этом – антиисторической, преступной.
Кроме указанных обрывков мысли, никаких еще аргументов против принципа творческой свободы г. Вл. Соловьев не мог выставить. И, без сомнения, не от того, что он не хотел искать их, но потому, что тою долей философского понимания, которой не лишен, он понял, до какой степени хаотическая свобода действительно несовместима с верою, и между тем, для этой последней трудясь, он для нее трудился под покровом первой. Он чувствует, ему необходимо отказаться от веры, удерживая свободу, или от свободы, называя себя верующим. И вот, не имея в себе мужества философа, ни прямоты христианина, он заминает, запутывает вопрос, и самое имя человека, который его поднял, усиливается похоронить под грязью ругательств[153 - Имя Иуды (им заменено всюду в его ответе мое имя), вероятно, кажется особенно ужасающим моему противнику, и, мы думаем, это не без связи с столь изменившимся его отношением к славянофилам, Каткову, наконец к самому православию. Мне это имя только напомнило фазы его деятельности и ничего не напомнило в собственной, так как, однако, его статья всем тоном своим старается внушить мысль, что я в чем-то иной теперь, чем прежде, то вот слова мои о свободе и о церкви, высказанные в первом мною изданном труде восемь лет назад: «Конечная форма, к которой стремится религия, определяется из следующих трех ее направлений: направления к истине, направления к оживлению религиозного чувства и направления к полноте господства. И в самом деле, кроме этих трех начал ни к чему другому не стремится религия, к ним же стремится всюду и постоянно. Так, религия (но не служители ее, которые бывают несовершенны) никогда не терпит в себе лжи; вся основанная на вере, она никогда не может ни действовать, ни существовать с тайным сознанием ложности того, во имя чего действует и существует; и все, что вносится в нее заблуждениями людей, раз будучи сознано как ошибочное, всегда уничтожается ею в себе. Далее, религия терпеливее переносит борьбу против себя, нежели равнодушие к себе, и это также не потому только, что равнодушие здесь опаснее ненависти, но и еще потому, что, чувствуя свое мировое и спасающее знание, она еще может понять, как люди не сразу уразумевают смысл ее и потому ненавидят ее, но не может понять, как, и уразумев этот смысл, они еще могут оставаться спокойными и свои маленькие дела предпочитать ее великому делу; не может примириться с этим, потому что здесь лежит невозможность самого спасения, сознание, что некого спасать и не для кого было приходить в мир. На этом же, на сознании своего мирового и спасающего значения, основано и стремление религии к господству над всеми людьми и над всеми сторонами их духа и жизни. По самой природе своей религия не может и не должна быть терпима, и та из них, которая уже не борется более, которая успокоилась, полна тайного атеизма сознанного или бессознательного. Как тот, кто видит погибающего человека и не спасает его, есть бессердечный человек, что бы ни говорил его язык, так религия, знающая, что есть хотя один еще не спасенный ею человек и остающаяся равнодушною к этапу, втайне уже думает, что не она спасает человека или что нет никакого в действительности спасения, о котором говорит она. И как бы могущественна, по-видимому, ни была такая религия, но «секира уже лежит при корне ее», потому что атеизм не есть религия, но только атеизм. Итак, религия истинная, всемирная и живая есть та конечная форма, к которой естественно и необходимо стремится религиозное сознание всего человечества и на которой оно успокоится. См.: «О понимании, опыте исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания», Москва, 1886 г., с. 618–619. Как для всякого ясно, это те самые мысли, которые полнее и мотивированнее развиты в статье «Свобода и вера», Русс. В., 1894, янв.]. Но, конечно, гораздо ранее будет похоронен сам, нежели хоть йота истины, которая, из мрака неведения выйдя к свету, хочет жить – перестанет жить.
V
Г-н Л. Тихомиров – его статья Существует ли свобода также направлена против выясненного мною принципа – принадлежит к немногим ясным писателям, на которых, соглашаясь с ними или не соглашаясь, невольно отдыхаешь после того болезненного, конвульсивного, затуманенного бреда, какой нанесли в нашу литературу «девятидесятники», еще ранее их «восьмидесятники»[154 - Так, оттеняя себя от предыдущих писателей, называли себя писатели, выступившие в 80-х годах: «Шире дорогу, восьмидесятник идет», – передано было в свое время восклицание одного из таких.], и, кажется, едва ли не первый потянул к нам с запада г. Вл. Соловьев со своею смесью теургии, экономики, парламентаризма, папства[155 - См. его «Критику отвлеченных начал» в связи с последующею деятельностью.], и, кажется, всего, что от золотых времен Сатурна и до наших грелось и играло под солнцем истории. После этой занимательной литературы, которой еще вчера не было никаких симптомов и сегодня она наполняет все журналы, всю прессу, также невольно и радостно отдыхаешь даже на каком-нибудь диковрущем «шестидесятнике»[156 - Для примера можно бы провести параллель, напр., между Лесевичем и Волынским (в «Северном Вестнике») или г. Шелгуновым и г. Мережковским (автором «О причинах упадка современной критики») и т. д.], как, выйдя из больницы на улицу, невольно с удовольствием останавливаешься на зрелище пьяного растерзанного человека после того, как несколько часов видел изможденные фигуры, пытающиеся прогнившим языком произносить молитвы и трясущеюся рукой положить на себя крест… Странное понятие, что к религии имеют какое-нибудь отношение и всякие больные о ней помыслы; что все есть философия, что очень нелепо; и мистицизм истинный – что не имеет для себя никакого объяснения и вообще всякого raison d’etre для своего бытия. Это жалкое стадо, которое немного лет назад было встречено так шумно и радостно, пока из-за пыли еще не показалось голов, – теперь, когда блеющие головы так ясно вырисовались, внушает смех и досаду за минутную, не основанную ни на чем надежду.
Чрезвычайная отчетливость выражения составляет главное достоинство г. Л. Тихомирова, и отсутствие длящихся мыслей, какого-нибудь сложного созерцания – его недостаток, как писателя. Как искусный дебатер в парламенте, он стоит перед полуотворенною дверью «свободы», и в виду толпы, напирающей на нее то извне, то изнутри, вызывает каждого словесно победить его прежде, чем он допустит сколько-нибудь расширить проход или его сузить. То, что его занимает так пристально только вопрос о свободе[157 - См. ряд превосходных его статей, вращающихся все только около этого вопроса, в «Русском Обозрении» за последние два года и также отчасти в «Московских вед.».], сообщает некоторую бессодержательность его писаниям: не понимаешь, зачем эта дверь не отворена; не понимаешь, почему ей не затвориться совсем; можно подумать, что узкая лента света перед его глазами ему нравится сама по себе, независимо от всего другого, как некоторая философская ding an und fur sich. Вообще он сильнее своих противников[158 - Он ведет вот уже давно непрерывающуюся полемику с хроникером «Вестника Европы» и с г. Вл. Соловьевым, причем его перевес и в мысли, доказательности так чрезмерен, что сто противникам не остается ничего, кроме казуистики слов, убедительной разве для очень давних подписчиков журнала.], и, по-видимому, это сообщает ему некоторое удовлетворение; когда его спрашивают, что за дверью и стоит ли что-нибудь там охранять от «воздуха», хотя бы и разлагающего, он отвечает, что об этом нет вопроса и предлагает, взглянув на ленту, доказать, что она недостаточно красива. Ему представляется, что нет других вопросов; нет иных нужд, иных точек зрения, как с его стула. И вот почему у каждого, в речи кого он слышит слово «свобода», он думает – идет речь именно о полуотворенной двери, которая его так занимает.
Конечно, в том очень хаотическом, очень неопределенном и всего менее необходимом процессе, какой совершается по ту сторону «двери», нет вовсе той принудительной закономерности, о которой[159 - «Есть некоторый внутренний процесс, или мы должны представить его себе, цельный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся, принадлежностью которого только и может быть свобода, в отношении к которому мы можем единственно понять ее». «Русский Вести.», янв. с. 268. Уже из тех, периодических и частых саморазрушений, какие испытываются в нашей истории за последние два века, можно видеть, как мало указанные определения принадлежат ей.] я сказал в статье Свобода и вера, что ей принадлежит совершенная свобода и также незнание законов чего-либо, от себя отличного. Разве среди нас, разрушенного отброса разрушенных веков, есть истинно верующий? Итак, речь была не о нас, не о теперь[160 - «Не один г. Розанов отрешается от уважения к свободе (как будто не я утверждаю ее способом гораздо более сильным, чем ее воображаемые защитники, в действительности лишь проституирующие ее) и понимания ее. Это также тенденция программно противоположных ему передовых направлений, тех, которым, может быть, даже принадлежит будущее в Европе. Г. Розанов только откровенно уничтожает снова, которые в передовых программах сохраняются по «недоразумению или для обмана. А затем как он собирается вогнать личность в одну тюрьму, так передовые стараются вогнать в другую. Разница между реакцией и прогрессом нередко состоит только в различном устройстве казематов, для нас приготовляемых. Полезно иметь перед собою откровенных реакционеров (как и прогрессистов), которые прямо открывают свою душу. Они помогают нам не попасть ни в ту, ни в другую западню» (Тихомиров Л. Существует ли свобода? // «Русск. Обозр., 1894, апрель, с. 910. Очевидно, idee fixe полуотворенной двери мешает видеть г. Л. Тихомирову еще что-нибудь, а между тем в природе есть море, небо, звезды и вообще множество вещей, перед которыми его дверь лишь исчезающий момент.]. Но если бы среди нас явился, если он когда-нибудь явится – человек веры, все, мною сказанное, будет принадлежать ему. И принадлежит также теперь единственному, в чем вера составляет самое существо – церкви[161 - Т. е. нашей как единственно (по полноте неразрешенной в ней истины) сохраняющей веру в себя.]: без внимания ко всему, вне ее лежащему истину, утверждения своего, умаленного, замолчанного, заглушенного тысячью звуков, прерывая эти звуки, разрушая это молчание – она может утвердить. Церковь пусть войдет во всю полноту канонов, не отмененных, но и неисполненных – вот что мне хотелось сказать, что одно я мог иметь в виду, и не желая отворять «дверь», и не желая ее суживать, и считая самую дверь и все за ней происходящее очень временным и для меня по крайней мере нисколько не дорогим.
VI
Так мало поняв предмет, к которому относится моя статья, г. Л. Тихомиров не понял и ее внутреннего смысла, и основание. Как и другой мой критик, его антагонист, но против меня союзник, он не остановился вовсе на моменте веры, который я указываю, и, думая формулировать мою мысль, говорит: «Существует г. Розанов, существую я, существует Соловьев, каждый из нас представляет некоторый процесс, совершающийся (физиологически?) по необходимым законам; он для себя требует свободы, г. Соловьев будет требовать того же для себя»[162 - «Русское Обозрение», апрель 1894, стр. 903.] и пр.; но какая же свобода для г. Вл. Соловьева, в котором духовно нет ничего принудительного, и сегодня он западник, вчера славянофил, можем ли мы быть внимательны к тому, чем он захочет быть завтра?
Какая свобода для общества нашего, которое может всем быть, но с условием – не долго и не скучая? И вообще человеку без творческого родника бьющих в нем сил какая свобода, зачем? Такая же, как для несущегося по ветру песка – свобода вырасти в дерево. Ведь я же говорю, что свобода следует за верою, как тень следует за предметом, которого она есть тень; с нею связана, от нее неотделима; и что за странная фантазия у моих критиков – пустить гулять по свету эти им милые тени, без всяких предметов, к которым они относились бы. Поэтому не «кто кого съест – тот и прав»[163 - «Что же получается, как общий modus vivendis, как закон жизни? Борьба. Кто кого съест, тот и прав. Такова мысль г. Розанова, если се изложить в кратких и точных словах». // Тихомиров, там же.], проповедую я, не борьбу; но только над слабоверием и неверием победу веры, и ею устроение людей так, чтобы желание самой борьбы, как меньшего и низшего перед гармонией, исчезло. Если я требую чего, имею права требовать, то – гармонизации в истории звуков, этого хочу моею природой не бессмысленной и требую как человек. «Свобода для себя, и ограничение для всего прочего», резюмирует меня г. Вл. Соловьев и с ним соглашается[164 - Та же страница.] г. Л. Тихомиров: моей вере – свобода и если я маловерен и слабоверен – во всем, в чем сомневаюсь, также мало свободы и для меня, как для кого-нибудь, как для бездомного, бедного животного, которое, в какую бы его избу ни загнали, уже обязано ее хозяину. Мой критик видит в словах моих непонимание личности[165 - Это есть центральное возражение, которое делает мне г. Л. Тихомиров: «Ясно только одно, что г. Розанов совершенно упраздняет понятие о человеческой личности как существе, отличном от механической и органической природы», и т. д. (там же, стр. 906). Ниже мы будем разбирать это место, но во всяком случае это очень умно, очень содержательно, и в трех строчках здесь более выражено мысли, чем сколько на 18 страницах сумел высказать ее Вл. Соловьев. Мне только приходится безмерно сожалеть, зачем г. Тихомиров так мало понял точный смысл моих утверждений.], жажду «реакционно» задавить ее свободу; но неужели, неужели когда я говорю личности: сотвори и в творчестве этом своем будь свободна, поверуй и в вере своей ты свята и неприкосновенна – неужели я менее понимаю личность, чау ее и к ней привязываю святую свободу, для меня святую, чем г. Тихомиров или г. Соловьев в сонме их, которые толкуют слова, не понимая их смысла, пытаются поднять что-то и не умеют, или, как «реакционером», которые, быть может, и в самом деле думают задавить что-то, но, конечно, никогда ничего не задавят, и только раздавятся сами. В бессмысленное я только ввожу мысль; человека чту не как совокупность ног, рук, праздной головы; этой голове говоря: «подумай», и этим ногам: «перестань ходить в блудилище» – я понимаю личность, они же видят в ней, в людях, в истории только кучи песку, бессмысленно туда и сюда передвигаемого ветром.
VII
Высокая отчетливость мысли г. Л. Тихомирова, быть может; и зависит от того, что в нем нет и ему не понятно все сколько-нибудь мистическое и священное в человеке; что простота механических воззрений одна ему известна; что значит живой росток в человеке и каковы его законы – это для него темная могила; он говорит[166 - Возражая на слова мои: «есть некоторый внутренний процесс, цельный, неразрывный по необходимым законам совершающийся (г. Л. Тихомиров отмечает это курсивом), принадлежностью которого только и может быть свобода».]: «Итак, каждый из нас представляет собою некоторый процесс, совершающийся по необходимым законам – воззрение не новое, и, высказывая его, г. Розанов до самой макушки остается погружен в наследство прошлого[167 - T. е. материалистические воззрения 60-х и годов, от которых и хотел будто бы и не умел отказаться, как объясняет он несколькими строками выше («Русск. Обозр.», апрель, стр. 900: «старое наследство, старые напластования русской образованной мысли наполняют все рассуждения г. Розанова. Он только делает реакционные выводы из того же строя понятий, который для других служит основой либеральных выводов»). Это центральное объяснение, какое он делает в статье своей для объяснения происхождения моих утверждений. Есть что-то неприятно элементарное в грубой ошибке, в какую он здесь впадает.]… Собственно, он никакой свободы не имеет, он совершается по необходимым законам; он растет, как трава, сам не зная, зачем и почему, потому что его заставляют расти и цвести необходимые законы. В былое время[168 - Делается ссылка опять на 60-е годы.] это воззрение считалось последним словом науки. Из него-то г. Розанов и делает свои отрицательные[169 - T. е. относительно свободы.] выводы. Это логично, но приводит его к совершенно звериным понятиям… Закон его[170 - Т. е. что всякое исполненное в себе веры существо не может заглянуть в закон чужой жизни.] есть собственно не закон жизни животной, как это утверждает г. Вл. Соловьев, но закон жизни органической. В частности, выводы его, конечно, звериные; но происходит это от того, что он не видит в человеке ничего, кроме действия сил органической природы… В понимании жизни он чересчур простодушно, с буквальнейшею точностью основывается на материалистических последних словах науки… Его статья – искреннее раскрытие странного внутреннего содержания… Для этого своеобразного дарвиниста люди столь же чужды друг другу, как растение и ветер, и так же не могут понять друг друга…»[171 - «Русск. Обозр.», апрель, с. 902–905.] «Он совершенно упраздняет понятие о человеческой личности, как существе, отличном от механической и органической природы. Он, во всяком случае, не выделяет человека из явлений остальной природы, считает его только процессом, совершающимся по необходимым законам, т. е. без воли, без свободы, без способности, так сказать, творческой, починной»[172 - «Русск. Обозр.», апрель, с. 906.].
О, беднота непонимания… Но в сочетании звуков, гением задуманных, и которым мы внимаем, не хотя в них никакой перемены, чувствуя невозможность этой перемены – нет разве этой высшей необходимости? и из того, что ни один смычек не смеет отступить от указанного ему, дрогнуть не там, где нужно, не дрогнуть там, где нужно – разве мы заключим, что перед нами сидит оркестр обезьян? Необходимость и непроизвольность – это закон роста растения, но и также закон всего высшего одухотворенного[173 - Чуткие греки до того это понимали, что не только поэзию, но и все виды им известного знания относили не к произвольной деятельности поэта и вообще какого-либо человека, но думали, были уверены, что и поэзия, и творческая мысль внушаемы человеку (музы); и в гораздо более позднее время, чем когда они сложили этот миф, Сократ утверждал, что все его лучшие мысли и важнейшие решения внушены были «добрым демоном» (божество собственно, но в христианском мире, как языческое, получило значение отрицательное).], и как о том мы несомненно знаем, что он определен Богом, так об этом должны заключить, что не человеку, по-видимому свободно его совершающему, он принадлежит, но этому же Богу. И вот почему человек так мало может выйти из этой необходимости; почему Бруно входил на костер; апостолы проповедовали на неизученных ими языках; и в наши дни почти развратный мальчишка[174 - Руссо.] становился первым человеком своего времени и к голосу его прислушивалась Европа; и много, много столь удивительных явлений в истории, где мы ничего не поймем, приняв человеческую душу за крутимый ветром песок, и все в ней станет нам понятно, если мы различим в ней перст Божий. Укажут на отрицательность многих явлений, их очевидно дурной смысл при явной внутренней необходимости: но что же, мы разве исключим наказание? А если мы признаем его, понятен нам станет бросаемый в нас камень, как и подаваемый хлеб; и град, выбивающий ниву, мы поймем – оттуда же, откуда и благодатный дождь. Злое в истории, преступное, как наглый смех Вольтера, болезненный пафос Руссо – этот камень разве падал не на зараженную ниву? Ей не нужно более быть, время терпения истощилось – и злые жнецы покосили злое. И нет нивы, убраны и жнецы – земля опять свободна для благодатного семени.
VIII
Если мы обратим внимание на соотношение этой необходимости со свободою, мы и увидим, что то одно свободно снаружи, что столь необходимо изнутри[175 - Мысль эта, впервые была высказана мною в заключительной главе уже цитированного здесь сочинения как общий взгляд на характер теоретической деятельности человека: «Наука как понимание есть процесс свободно-необходимый по своей природе и происхождению. Но если мы рассмотрим эти два свойства его в их взаимном отношении, то увидим, что они связаны между собою причинною связью: понимание есть процесс свободный, потому что оно есть и процесс необходимый и чем полнее эта необходимость, тем полнее эта свобода. Но необходимость науки как развивающегося процесса понимания безусловна и всесовершенна, потому что этот процесс восходит, как в своей причине, только к одному строению разума, и раз это строение существует, существует и он: наука дана в разуме, как следствие дано в причине. А поэтому и свобода ее от всего, лежащего вне разума, безусловна и всесовершенна: она ни к чему не имеет отношения в жизни (т. е. принудительного для нее), ни с чем не связана причинною связью (т. е. иначе, как побочною), а поэтому ни от чего не зависима… Будучи процессом внутренне необходимым, понимание по отношению к создающему его (т. е. человеку) есть деятельность непроизвольная. Непроизвольно же совершаемое человеком не может не подлежать осуждению. И поэтому наука, будучи свободна от явления жизни, свободна и от суда человеческого. В этой непроизвольной деятельности человек выполняет не свое желание, но требование того, что есть первоначального в его природе. Строение же этой первоначальной природы определено не им самим, но создавшим эту природу. И поэтому, стремясь к пониманию, человек выполняет не свою волю, но повинуется воле создавшего его. И следовательно, все, стесняющее процесс понимания, есть возмущение против Творца человеческой природы… И так как это стремление предустановленно для человека в его природе и, повинуясь ему, он выполняет свое назначение на земле, то все, препятствующее этому пониманию, отклоняет его от его назначения. И поэтому, как тот, кто сам в себе почему-либо подавляет этот дух исследования и изыскания, так равно и тот, кто в другом подавляет его, мешая проявлению этого духа разумения, одинаково стремятся отклонить человека от его назначения и восстают против того, кто указал ему это назначение. Но всякая воля и сила имеют только две опоры: волю человека и волю создавшего его. А так как в стремлении к пониманию человек проявляет и свою волю, и волю Творца своей природы, – у последнего же не может быть двух противоположных желаний, но только одно, несомненно проявившееся в создании одинаковой природы всем людям, то очевидно, что человеческое понимание опирается на обе опоры, стесняющее же его не имеет ни которой из них. Это значит, что в природе вообще не существует силы и права, могущего стеснить разум и науку; и самая попытка к этому есть возмущение против человека, природы и Того, Кто создал все», и т. д. См. «6 понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». М., 1886 г., с. 716–717. И позднее в «Месте христианства в истории» (М., 1890 г.) повторено: «Как можем мы отрицать, что в бессмертной мысли человека, стремящейся обнять собою мироздание, проникнуть во все глубины его, проявляется то же самое дыхание Божества, которое сказывается в нас, когда в минуты горя или безнадежности мы обращаемся к молитве. Стремиться подавить в себе эту мысль, думать, что ее пытливость может быть не угодна Богу – это значит отвращаться от Божества, в своей бессмертной душе убивать его дыхание. Воля Творца нашей души несомненно выражена для нас в самом строе этой души, и если в нее вложено этою Волею стремление к познанию, мы можем только осуществлять ее, познавая, мы повинуемся Богу», и т. д. стр. 38–89. Я не в праве ожидать, и еще менее требовать внимания к своим трудам, и, однако, ранее, чем называть «Иуда», «животное», «готтентот» (Вл. Соловьев), «зверь» (Л. Тихомиров), нужно по крайней мере всмотреться в лицо, к которому относишь эти слова.]. Что может быть необходимее того, что испытывает высокий поэт в моменты творчества: написанное он марает, всяким исходящим звуком недоволен и ищет какого-то одного, когда его отгадывает – какая светлая радость ложится на его душу! Или Кант, создавая «Критику чистого разума» – разве был так свободен, как профессор, приступающий к теме диссертации и совершенно не знающий, что там написать? О, конечно, этот с такою свободою пишет всякий вздор, с какой летит ворона или санкюлоты раскупоривали бутылки в королевских погребах; и нет этой свободы для творческой души, есть – необходимость и с нею иная святая свобода, с которою за веру, за мысль, за тоску своего сердца люди веков минувших, все и равно Богом посланные люди, не останавливались перед костром и там были радостны, не страшились тюрьмы и там были светлы, и куда бы и когда их ни гнали – всюду были с своим сокровищем и его не утеряли.
Но вот, люди праздные, которым нечего уронить из рук, требуют: «дайте нам эту же свободу». На что? за какую веру? для какого подвига? Нет внимания к вашему желанию еще и еще «раскупоривать», еще и еще «лететь»; останьтесь здесь – вы и там не нужны; возьмите плуг в руки – вино не для вас заготовлено. Та свобода приходит к кому нужно, и он ее знает, во имя ее поступает; то, что вы называете этим именем, было только плод недоразумения, смешение разнородных вещей, которые, наконец, должны быть разделены.
Мне больно, однако, если бы кто-нибудь так понял мою мысль, что свобода – лишь тем, великим, на которых сияло солнце истории: самое бедное и узкое в своей мысли существо может быть также исполнено совершенной веры, и в меру его веры ему принадлежит совершенная свобода. Тем принадлежит творчество художества, мысли, – этим творчество самой жизни, не меньшее. Все живет, все движется – верою, и тем выше она знания, тем выше и гения, что доступная равно всем, – всех животворит и освещает. В бедном храме молящиеся не ниже всходивших на костер за науку; те и другие равно братья; обоим указаны были одинаково предметы для веры, и как те умерли, эти не отказались бы умереть за свое особенное утверждение; и в нем они не прикосновенны.
IX
Как, однако, неверующего отделить от верующего? Через страдание, которое сгонит улыбку с лукавых уст, обратит в бегство крадущихся к не принадлежащему им сокровищу и одних верных при нем оставит. Предвидением высшим, чем наш бедный ум, от этого бедного ума скрыто окончательное; и, кажется, самое познание его не так важно, или, по крайней мере, оно приготовлено не для человека. Нам дано только сердце, чтобы возлюбить – то, что поставлено в данный преходящей момент как предмет веры; и то, что мы «истиною» своею называем, не столько в самом деле истина, как в образе ее нам явленное, чтобы испытать наше сердце для какой-то другой истины, которая ему в награду – не теперь, но когда-нибудь – будет дана. И так, потерять для иного сердце свое, и за то, что его держит, быть готовым пострадать даже до остатка жизни – закон человека в истории, один непоколебимый. Вера одна в человеке оценится, когда знание окажется, ложно, коля – заблудившейся; и из потемок, из неведения – в награду за веру пребывший в ней введен будет в свет. Богу принадлежит завершить концы; мы же, не предугадывая их, должны бороться каждый за истину своего утверждения. И то утверждение, которое до конца сохранит себе верных, всего сильнее и глубже привяжет к себе человека – это утверждение есть вместе и Божие; ибо ведь по образу Божию сотворен человек и влечется наиболее темными для него путями он именно к Божественному. То же, что побеждено будет, своею не Божественною природою влекло к себе низшее в человеке, и, пожнив за веру в него некоторую награду, они все-таки не удостоятся той, какую получат последние верные. И в отрицательных процессах истории есть внутренняя необходимость, как в падающем граде – сила тяготения; и выражающие их в себе проходят перед нами как гении, однако – меркнущие в веках, без вечного в себе света. Есть среди всех борющихся нить этого света, и она никогда не прерывалась; каждый в утверждении своем думает ее уловлять; уловил ли – знает Бог, человеку дано только уловленное не упускать. Без него – он ничто; только пыль, тончимая ногами верных, вздымающаяся, ложащаяся, отлетающая или здесь остающаяся – нет вопроса.
X
Итак, для безверных – закон покорности, для верующих – борьбы. И почему, почему если уж драгоценная кровь человеческая проливается, – не за то, что истинно дорого человеку, чем он живет, проливаться ей, но и вечно как теперь – за кипы непроданного хлопка, оскорбленное самолюбие монархов, «престиж власти», «сферу влияния», и за тысячу иных ненужных никому вещей, кроме одной только, которая каждому истинно нужна? За целость фабрики, где задыхаюсь я и мои дети, позволительно, чтобы умер я, и – не умер за ветхую церковь, где я и они крещены, где мы отдыхали редкие минуты и никогда ничем не были оскорблены? «Век борьбы за веру окончился», решили мудрые, и вот, в пустой от веры груди выросло волчье сердце, а Бог отрастил к нему и волчьи зубы, чтобы люди терзали друг друга, как никогда не умели, не могли, не решились бы[176 - Не поразительно ли в истории это совпадение всякий раз успехов атеизма с успехами в изобретении орудий истребления, заметное и всегда, но в наше время столь мечущееся в глаза. Связывающим моментом здесь является то, что с исчезновением предметов для внутренней деятельности человек ищет предметов для внешней; не имеющий необходимости побеждать себя – ищет победить других и изобретает как. R, частности, к случайному наблюдению Бартольда Шварца (которому почему бы и не забыться? не примениться к благому?) нужно было, чтобы присоединялось злое движение мысли: «Нельзя ли, чтобы как этот взорванный камень взлетал – но не он уже, а человек». И кто так подумал – порох и изобрел.] при вере. Как глубоко отвечает атеизму нашему, жестокосердию, безверию эта война, ставшая наукою, эта методичность и холод истребления, и то, что я, он, всякий – умираем, но уже не за то, что любим, но что презираем, чем мучимы, что ненавидим, умираем как скованные рабы в цирках Рима, так же невольно и бессмысленно, и для того же; в последнем анализе, как и они тогда. Разве христиане осмелились бы делать изобретения, на какие решаются бывшие христиане? так готовиться к истреблению: так всею мыслью своею, всем ведением, желанием проникнуть к этому? Конечно, этот камень, давящий нас, тяжел как могильный – и, однако, на мертвое уже сердце давит он, которому и не нужно ничего иного, ничего лучшего он не заслужил…
Итак, борьба, высшим неведением обусловленная, двух встретившихся вер, одна и выносима для человека, и определена волею, скрывшею от нас концы, – без сомнения за высшую неискоренимую греховность нашу; определена, как и болезнь, и смерть – все, от чего отвращается человек и что для него неотвратимо. Но как в болезни человек просветляется душою, как при виде смерти смиряется смертный, и в этой борьбе, но уже не кощунственной, не наглой, для наглых интересов начинаемой, – животная сторона в нас покоряется идеальною и мужество требуется по крайней мере не рубашкою, которая вчера сделана, завтра износится, но уже сегодня износился я, ее сделавший. Жертвовать может человек только за великое; это великое для него – вера; итак, в формах тех ли, какие есть, или, за их бесчеловечием, в иных, он может и будет бороться только за предметы веры, – те, какие ему указаны будут Богом, пройдут перед лицом его в истории, быть может и обманчиво маня его, но обманчиво лишь в меру его испорченности, и всегда истинно, его, притягивая, в меру правоты его сердца.
XI
Но вот, поправляя складки на плащах своих и красиво надвигая шляпы, маркизы Позы и Гамлеты нашего времени спрашивают: «неужели и нас тронет эта грубая борьба»? Нет и нет, если вы безверны – вас тронет только плуг, в который вас впрягут; но если в вас есть вера – что же, чернилами из ваших чернильниц вы только хотели бы пожертвовать ради ее? Всемирные судьи, не умеющие камня сдвинуть с камнем, которым так жалка работа мозолистых рук, месящих известь, тешущих бревна – что же за гладкий слог свой вы хотите быть пощажены, когда не щадятся другие и вы этого не требуете? Снимите абажуры с ваших ламп, перестаньте видеть только белое пятно под ними, которое вы унизываете словами и словами. Взгляните, как трудно жить для всех, и почувствуйте ответственность. Почувствуйте ответственность уже за то, что вы бессильны, Бог вам не дал замешаться в эту загрязненную толпу и разделить ее труд. Ему помочь смыслом, его согреть словом утешения – все, что вы можете; на большее – не дерзайте, противоположного страшитесь.
Или, если весь труд этот вам кажется бессмысленным, если в самом деле неодолимо природою вы от него отвращаетесь – конечно, впадая в ложь перед собою и не исполняя указанного вам Богом, вы не запоете же ему дифирамбы. В вас вера иная, чем в тех, кто созидает; в этой вере вы свободны – ее выразить, ее утвердить; и если пути вашей веры и строящих сталкиваются, в борьбе, которая неминуема, всегда в истории наступала в такие моменты, всегда будет наступать – обнаружьте крепость своей веры в готовности к страданию. Нет иного способа различить вас от безверных; не внимать слову вашему значит не внимать и никакому; внимать – значит внимать всякому. Ни этого, ни того не могут строящие, – они сами помнят за собою слова, которым не могут, не должны изменить. Итак – Бог решит, нива ли к потреблению обреченная перед вами, и вы – имеющее на ее место лечь новое семя; или же нива здорова и должен быть истреблен червь, на нее напавший.
XII
Конечно, было бы приятно для человека, если бы и червь точил колос, и колос оставался цел; если бы жизнь была аудиторией, и история – чередующимися часами разнообразных в ней чтений. Какая борьба, когда звуки не встречаются, и не только в воздухе, но и в душе, которая что слышала вчера – сегодня забыла, и к завтраму забудет то, что слышала сегодня. Наивные, однако, чтецы, или, быть может, они оплачены, – и тогда вынуждены, конечно, читать; но какой же наивный хозяин аудитории оплатил их, когда единственное, чего хотят истинно его гости – это заснуть; и есть род вечного сна – он называется смертью, и как сои, как бодрствование, этот род также во власти хозяина. Быть может, этого просят гости, об этом томление минуты?…
По крайней мере – не у всех: есть незабываемые звуки для некоторых, есть некоторые, не забывающие их; и, раз воспринятое ухом, в них растет только по закону воспринятого, не мешая его с законами иного… Нет осуждения этим иным законам, есть их неведение; и неведение даже тогда, когда звуки извне встретились и хотели бы разделить внимание одной души. По одному закону строится всякая душа, истинная и глубокая; как по одному ключу настраивается инструмент. И закон разломанной балалайки, с повисшими струнами – ей не указание, для нее не принцип. Таких может быть очень много, и может быть печальная минута, когда инструменты гораздо более сложные, предназначенные устройством своим к лучшему, как будто вторят этим же балалайкам, или по крайней мере не издают сколько-нибудь сносных звуков; не в числе их дело, но только в законе, что самый принцип инструмента всякого, и даже балалайки – состоит именно в гармонии: в том, что звуки подчинены одному ключу, по нему текут, из-под него не умеют выйти. И если в мире грубом, в царстве звуков мы смешения, хаоса не выносим, – не должны ли мы быть гораздо более чутки к миру дел, в царстве руководящих человеком мыслей? и хаоса, смешения, несносного там – еще менее выносить здесь? Все простится человеку, кроме лжи; лжи же отрицание есть вера: ибо кто по вере поступает – не лжет, кто против своей веры или без всякой – впадает в ложь. Итак, то, что для звуков есть гармония – для дел и мыслей человеческих, сплетающих собою историю, есть вера. К ее принципу должны быть возведены дела и мысли: только к принципу веры, без определения – которой.
XIII
Сколько бы ни пытались противники этого творческого устрояющего хаос принципа, его отвергнуть – они не в силах этого сделать; и чем их попытка страстнее, тем в ней самой обнаруживается ярче его присутствие. Мы возвращаемся к последним возражениям, которые против него делает г. Л. Тихомиров; он говорит: «мысль, будто никакой субъект[177 - То есть, высказал я в «Свободе и вере», насколько он есть носитель исполненного веры утверждения («Р. В., cap. 269), «насколько оно верит и хочет жить» (ib., с. 271).] не может войти смыслом в закон жизни другого существа, есть очевидная и самая ничтожная неправда. Разумеется, я не могу войти в закон жизни какого-нибудь ветра или химического процесса: это для меня только явления, а не личности, и я их могу понимать лишь со стороны внешних условий их совершения. Но войти в душу, в смысл всякого человеческого существа – каждый из нас, людей, может совершенно свободно и легко. Единомышленность[178 - Из слов моих «для всякого существа – один закон; и нельзя, не утратив тожества с собою, ему слиться в мысли, в желании с законом, противоположным своему или разнородным с ним: противоестественно было бы мудрому войти в законы глупого, в правила печеного» («Свобода и вера», с. 271) – из этих слов мой оппонент мог бы видеть, что вовсе не сходство в мыслях я разумел в статье своей, но общность, однородность в целом психическом строе, в законе бытия душевного, в неразорванной на элементы природе. Как увидим тотчас, в нижеотмеченных словах приводимой цитаты г. Л. Тихомиров с горячностью утверждает, что при подобной разнородности, конечно, невозможно понимать друг друга.] тут совершенно не причем. Когда[179 - Отсюда и до рассуждения о личности г. Л. Тихомиров возражает своему предположению, которого я не высказывал, и оно очевидно ложно.] человек способен понимать и якобы любить только единомышленника, человека своего дела, своего кружка или партии, то это только означает, что он человечески очень не развит и в сущности никакого человека не понимает и не любит. Он не человека понимает, не личность, не их любит, а известную службу, известную деятельность их. Это та же любовь, какою мельник любит хороший ветер[180 - Все это рассуждение есть типичное для г. Л. Тихомирова: необыкновенная отчетливость формулирования, прозрачная ясность языка и даже ценность мысли абстрактно взятой – при полном непонимании сути разбираемой мысли. Можно сказать, что продукты духовного творчества другого человека и вообще, кажется, явления жизни и истории – он рассматривает (выражаясь иносказательно), как минералог и никогда как ботаник. Начало жизни в высшей степени чудо и непонятно ему, и этот недостаток душевного проникновения даже отражается на достоинствах и недостатках его языка, столь прозрачного и как-то точно стучащего словами, – точно между ними недостает чего-то эфирного, живого, что, как сон, по трубкам растения бежало бы, струилось в них всех и их одушевляло бы и связывало.]. Человеческое же понимание и любовь относятся вовсе не к мысли, а к личности[181 - Против его взгляда на мое отношение к личности я возразил выше, в тексте этой статьи – и нет нужды возвращаться к этому здесь.]. Я гораздо более восхищаюсь умным, тонко развитым противником, нежели единомыслящей мне тупицей. Когда я вижу человека «чужого», но доброго, благородного, то он мне, конечно, более нравится, нежели единомыслящий мне, но дрянной человек». («Р. Обозр.», апрель, стр. 907.)
Вот слова, которых я ждал и уверен в разных вариациях услышать их от каждого как невольное признание указанного мною принципа. Ведь я же готов согласиться и даже признаю как простой факт (основываясь на литературной деятельности), что критик мой и умен, и не лишен доброты, идеализма, стремлений к лучшему. В этом именно, как в законе своей личности, он и сливается со всяким человеком, когда даже расходится с ним, напр., в миросозерцании, которое, быть может, ему случалось изменять, и следовательно оно образует как бы краевые очертания его духовного существа и вовсе не его центр. И когда центр у иного человека разнороден с его, когда он встречает «тупицу», «дрянного человека», – и не тупой, и не дрянной сам, он с ним не взаимодействует, его не понимает, не любит, но сожалеет с тою поверхностью и сухостью как почти «мельник об ему ненужном ветре». Объясняя и развивая свою мысль, и все пытаясь отвергнуть мою, г. Тихомиров переходит на примеры «художественного творчества», указывает на «полноту проникания» в смысл чужой жизни, какое мы наблюдаем у великих поэтов» и их критиков, без сомнения? Пусть, в качестве последнего, мой противник попытался бы слиться смыслом своего бытия, с смыслом бытия напр. Паншина в романе «Дворянское гнездо», или Пандалесского и матери Натальи – в «Рудине», наконец, и это еще ярче, с Лужиным в «Преступлении и наказании», с Репетиловым, Скалозубом, Молчалииым в «Горе от ума», – сделал бы усилие полюбить их, понять, оценить смысл и своеобразную правду каждого. И, между тем, эта правда в каждом из них есть: каждый из них нечто утверждает, и что это так, видно из того, как мало они понимают Раскольникова, Чацкого, Рудина, Лизу. Но мы в их правду не проникаем, ее не хотим, ее отвергаем, и так глубоко, что нас возмущает самая мысль о «какой-то их прав де», о самом ее бытии, и мы этих людей признаем, как и создавшие их в вымысле своем художники, не более, действительно, как и «траву или морской прилив»[182 - Сравнение принадлежит г. Л. Тихомирову.]. С тем непониманием оттенков и переливов чужой мысли, какое отличает резко очерченную и небольшую голову г. Л. Тихомирова, он продолжает, как бы стараясь научить меня: «Это именно закон жизни человека, что чем он более становится развит, зрелее как человек, чем выше и тоньше его самосознание, тем он лучше понимает и другого человека, (курс. г. Л. Тихомирова). Одно идет рядом с другим. Это стариннейший факт, который подтвердят все мудрецы, как древние, так и христианские. Единство человеческой природы и присутствие в ней духовного начала производят то, что чем глубже мы себя сознаем, тем лучше понимаем и других. А из этого понимания рождается отношение к другому человеку, подобное отношению к себе, любовь в различных формах и степенях, жалость к падшему, восхищение идеальным, если оно замечается мною в другом»[183 - «Русское Обозрение», апрель, с. 907.].
Но ведь если бы в идеалисте он указал мне восхищение низким, в целомудренном – развратным, только тогда он доказал бы свою мысль, теперь же, всеми этими примерами, усилиями только подтверждает, развивает и укрепляет мою об абсолютной темноте всякого живого существа, к иному живому же, которое в принципе бытия своего, в законе деятельности своей ему противоположно или с ним разнородно. И вот, будучи так славен к тому, куда его собственная мысль течет, он заключает:
«Мы говорим о терпимости, т. е. о допущении чужой свободы, хотя бы ее употребление нас глубоко огорчало и даже возмущало. Чувство этой терпимости может быть соблюдаемо каждый день у всех людей[184 - Конечно, у безверных и слабоверных, у невозбуждаемых верою, и нет этого чувства у последних, как мною показано в многочисленных примерах в ст. Свобода и вера и здесь.], в разных степенях и формах. И как же иначе? Ведь начиная сколько-нибудь понимать себя, я очень хорошо вижу, что я существо свободное, – не отрицательно свободное, не в том смысле, чтобы я не имел перед собою внешних препятствий, а в том смысле, что я имею способность свободы, т. е. самостоятельность; способность быть не последствием, а причиной, способность творческую[185 - «Русское Обозрение», апрель, с. 908.].
Будто не я именно утвердил неограниченность этой творческой свободы за верою, в меру этой веры и в ее пределах[186 - «Вера есть не всегда ясное, чаще смутное отношение человека, да и всякого живого существа, к своему закону и назначению: мудрый потому верит в истину, что в нем предустановлена она и только ожидает его усилия, напряжения в нем мысли, чтобы стать ясною – не предмета веры стать предметом созерцания». Так же и потому же верит и всякий творческий дух; а с верою я соединяю и свободу совершенную. См. Свобода и вера, главы III и IV.].
«Никакие благоприятные условия не спасут меня, если нет на то моего произволения. Это произволение мое, конечно, со всех сторон иным поддерживается, иным заглушается, но всегда остается не уничтоженным. То же самое я вижу у других людей. Из каких побуждений, на каких основаниях я могу не принимать во внимание эту их свободу»[187 - «Русское Обозрение», апрель, с. 908.].
Из того побуждения, безверный, чтобы жила моя вера, на том основании, что ей противоположное мешает ее свободному и яркому выражению, как ветер, ломающий ветви дерева – его спокойному росту, светильнику светящему – его затеняющий предмет. И если свет этот живой, он удаляет свое препятствие; если бы дерево было осмысленно, мощно, оно от границ своего утверждения, своей жизни удалило бы всякое утверждение, его собственному противоположное. И всякое творческое существо с путей своего творчества, своей веры, своей свободы удаляет как хаос то, что в смысле творчества с ним не совпадает, в путях этого творчества – встречается.
«Ведь уничтожить эту свободу я не могу, если бы и захотел…»
Т. е. окончательно ее уничтожить Бог не дает силу тому, кого вера относительна, и в силу этого – не тверда, временна. Как напр. во всех тех случаях, когда эта вера относится только как разрушительный момент к тому, чему предстоит перестать быть, и с исчезновением чего она сама ослабевает, гибнет, и вместе с тем перестает связывать собою что-либо.
«Во-вторых, зачем я буду стараться эту свободу подавить, когда в ней самый центр личности человека?»…
Т. е. при вере, которая и есть центр личности человеческой, ее сияние перед Богом, перед людьми, в истории – своим утверждением. Без веры же какая личность? без утверждения, какой человек есть вместе и лицо? Или, по крайней мере, что это лицо выражает? Не то ли же, что куча передвигаемого ветром песку, которая принимает все фигуры и никакой по необходимости.