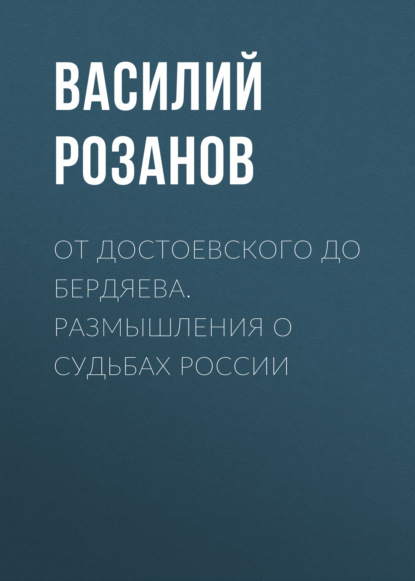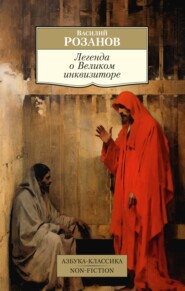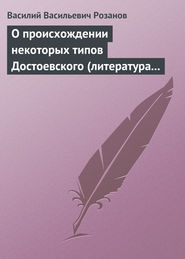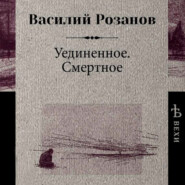По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фатальное и краткое это впечатление, в сущности, и легло между нами. Но хуже было и совершенно непростительно, что я за этою мне не нравившеюся («без магии») литературою не почувствовал вкуса и к самому его лицу, что было уже прямою и очевидною ошибкою, ибо в лице его, несомненно, была «магия», это «особенное и неясное, чарующее», к чему можно безумно привязываться. Но оно было самим им глубоко скрыто от мира, «застенчиво» спрятано. Кстати, VII главу его «Оправдания добра» я все же перелистал после его смерти и увидел, что там написано. Мне и раньше о ней говорили (юристы), что «это – совершенная новость в европейской литературе». Не могу цитировать, но скажу только, что там идет дело о «происхождении, генезисе и первой исходной точке нравственного в человеке и в человечестве чувства». Таким исходным пунктом, так сказать, начальною точкою, где впервые «зашевелилась и обнаружилась» эта стихия человеческой природы, – есть стыд, а именно – половой стыд. «Половая застенчивость» есть, таким образом, великое «А», с которого и началась вся последующая лестница нравственных добродетелей и нравственного развития; а самый пол, то, что ранее всего закрыл у себя человек, чего он первого застыдился, есть «А» реально-худых, аморальных в мире вещей. Без цитат все это тускло, но в цитатах читатель бы увидал, до чего все это движется «тяжелою артиллериею». Об этом-то именно пункте юристы мне и говорили, что это «новое слово в европейской этике», – и говорили профессора университета. Бедный Соловьев, который от мира скрывал и свою «магию», хороня ее как дар между собою и Небом. Завтракать – он завтракал и в ресторанах, с «друзьями». Говорил о всех темах открыто, громко. Но вот что в нем есть «дар пророчества», ну хоть какой-нибудь, – это сокровище своего сердца, величайшую радость жизни своей, свое утешение, свою гордость – только однажды он высказал (см. выше) в письме ко мне; высказал – и замолчал, и не «размазывал». Можно ли было бы представить себе, что, войдя на парадный обед, где, однако, собрались все его друзья и «почитатели», он, садясь, сказал развязно, громко и отчетливо: «Господа, вы знаете. Я пророк, во мне есть что-то жреческое и пророческое». «Умер бы от стыда» – если бы сказал. «Зарделся бы от стыда» если бы кто-нибудь об этом, в приветственном тосте, но тоже во всеуслышание, сказал ему и вместе всем гостям. А «наедине, в укрытости, в частном письме» – сказал бы. Это – застенчивость, стыдливость, а – не стыд: явления не только не тожественные, но противоположные, как черное и белое, как добро и зло, как день и ночь, как земля и небо!! Такова и застенчивость половая, в силу которой мы закрываем весь этот интимный и глубочайший мир в себе; закрываем, но не отрицаем, что он есть, и никто решительно не скрывает, – ни Адам, ни мы сейчас, что он проявляется, действует, не мертв. Разве мы скрываем, что у нас есть дети: целомудреннейшие «святые» женщины с гордостью показывают вереницу малюток, «своих» малюток, и показывают их тем, кто нисколько не наивен и знает способ их происхождения. Как и Соловьев «книжку стихотворений» своих дарит, а вот, садясь написать новое, – запирался, бывало, на ключ. И если бы кто-нибудь постучал в дверь, ответил бы или сказал бы вошедшему гостю, особенно чужому и постороннему: «Да – был занят», «писал статью для журнала» (мир суеты, поверхностное); но ни за что бы не сказал: «Был во вдохновении! писал стихотворение». Отчего? Слишком хорошо и – священно. Похоже на алтарь, на храм, а не на базар. Разве бы другу, самому близкому, и только окончив стихотворение, он сказал: «Садись и выслушай» или: «Вот, прочти»?.. Да, другу, близкому, «кусочку души своей». Это – мир интимного, неразрываемого, цельного, «своего я». Так и пол – не несется на базар, ибо он по существу своему есть не базарное явление: отчего нас так и поражает, так заставляет гнушаться собою проституция, как глубочайшее извращение вещей и как обазарнение святых, интимных и дорогих частиц, нашего «я». А думают: «оттого, что это – разврат», что «это по существу такая вещь, которая все пачкает и даже запачкало наш рынок», где биржа, плутовство и грабеж. Не запачкало, а запачкалось около рынка, грязи, суеты, обмана, денег: запачкалось то, что всегда должно быть чисто, свято, уединенно, сокровенно, иметь окружением себе, крыльцом около себя такое «святое» явление, как семья, как муж и дети, родные и родство!! Таким образом, Соловьева, да и не его одного, а тысячи людей, ввела в философский и этический обман самая шаблонная терминология («проститутки грязнят рынок») и необдуманно составленные слова («стыд пола» вм. «застенчивость пола»), вообще – филология. И он тайну принял за преступление. Стихи его, стихи и все стихотворное творчество, «стыдливое», «застенчивое», «при запертых дверях», – вот что пусть опрокинет эту VII главу его «Оправдания добра», о которой я бесконечно сожалею, что не прочел ее сейчас же по получении книги: ибо до того очевидны и вместе так метафизически важны простые истины, ее опровергающие. «Покров Изиды», «Таинства Изиды и Озириса», «Элевзинские таинства»… сколько прозрений в историю он мог бы сделать, если бы не написал или вовремя отказался от этой VII главы. Он увидел бы, что с этого «самого интимного и дорогого человеку» и началась вообще религия, религиозное в человеке, а не пороки и преступления, которые скорее начались «с базара» и «на базаре» – и становятся всего омерзительнее, когда «и самое святое выносится на базар».
Не могу не обратить этих слов в особенности к вниманию молодой и. прекрасной (если не обманет) надежды нашей литературы, сына его покойного брата Мих. Серг. Соловьева Серг. Мих. Соловьева. Он очень, по-видимому, размышлял над этими темами; ему – долго жить, много писать. Тема эта – великая, необъятная. В ней можно совершенно запутаться, войдя не в ту дверь. И мне хочется указать ему настоящую. Все изложенное мною о VII главе моральной философии и есть ответ, который мне тогда же хотелось, но я не мог дать на некоторые резкие, но полные непонимания его упреки в отношении меня, помещенные в письме-статье о любви и поле в «Вопросах Жизни» за 1905 год. «Покрывала Изиды не надо открывать», т. е. подымать его перед миром, показывать, делать находящееся под ним базарным: не надо, ибо тогда тотчас «Изида и божество» превратилась бы в ничто, персть, может быть, – гниль, зловоние. Ей-ей, молитвы и не было бы, начни ее выбивать на барабане; но самому и уединенно, ночью, крадучись, можно и нужно «войти под покров Изиды», «чтобы научиться всякой мудрости». И назавтра сказать, что ничего не было и нигде не был. Так именно хорошо был затаен Нафанаил, «которого никто не видел» – кроме Христа…
Из «Мимолетного» 8 июля 1915 г.
8. VII.1915
Многообразный, даровитый, нельзя отрицать даже гениальный Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем вертящегося начала: тогда как философия прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь б. шум и нельзя отрицать – даже суета. Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента – в философию. Он «вливался» в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами: и пенился, и плескался, и обмывал «философские темы» литературным языком и литературною душою.
Это еще более, нежели к философии, относится к его богословию. В нем не было sacer[225 - Священный (лат.).] и не было sapiens[226 - Мудрый (лат.).]. Вот в чем дело.
В КОРНЕ – писатель, один из даровитейших, один из разностороннейших в России. Ему параллели лежат – в Пико-де-Мирандолла, в Герцене. Но какая же параллель ему в Канте или в Декарте? В Беркли или в Малебранше?
Небо философии безбурно. А у Вл. Соловьева вечный ветер. И звезды в этом философском небе – вечны, а «все сочинения». Влад. Соловьева были «падучие звездочки», – и каждая переставала гореть почти раньше, чем вы успевали сказать «желание». Что-то мелькающее. Что-то преходящее. Потом это его желание вечно оскорблять – фуй! Какой же это философ, который скорее ищет быть оскорбленным, или равнодушен к оскорблению, и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым, с (пусть нелепыми) «российскими радикал-реалистами», с русскими богословами, с «памятью Аксакова, Каткова и Хомякова» до того чудовищна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно газетному языку, что вызывает одно впечатление: «фуй! фуй! фуй!»
Проза его, я думаю, вся пройдет. Просто он не будет читаться иначе как для темы «самому написать диссертацию о Соловьеве». Но ведь так и Пико-де-Мирандолла «еще существует».
Но останутся вечно его стихи… Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, «Пушкин – алмаз», «Тютчев – жемчуг». Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. «Кошачий глаз»? (очень красивый и без намеков) – топаз? аквамарин? Может быть – красивая, редкая, «настоящая персидская» бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение вечно и прекрасно. Оно где-то между Тютчевым и Алексеем Толстым. Но в некоторых стихо творениях он даже единственно прекрасен. Между прочим как он неблагороден и немудр в прозе, – в стихах он и благороден и мудр. Отчего – не понимаю.
Между прочим, лично, он положил на меня впечатление какого-то ненасытного заведования, «ревнования» к другим и – оклеветания. Он почти не мог выносить похвалы другому или, особенно если заметит ваше тайное, «вырывающееся» лишь, восхищение к другому. Тут он точно ножницами «отхватывал» у вас едва вырвавшийся кусочек похвалы, (о Гилярове-Платонове: слова его ужасные, если б была правда, что «он был атеист», «ни в какого» Бога не верил» и «никакой религии не имел»). Единственно, где он жестко остановил меня, – было о Стасюлевиче (коего я очень не люблю), – и я почти благодарен, что он остановил меня. Иначе впечатление от него (С-ва) осталось бы во мне каким-то сплошным мраком.
Рцы незадолго до своей смерти сказал мне очень меня удивившее слово: «Я все время чувствовал его завистливым, – пока, сидел с ним у вас». Удивительно. Рцы очень зорок. Сказал это он мне без моего вопроса, «сам» и как «свое».
Грусть – всегда у меня о С-ве. Я его не любил. Но что он глубоко несчастен и каким-то внутренним безысходным (иррациональным) несчастием – это было нельзя не чувствовать.
Вот уже скажешь: «Господи! успокой его смятенную душу».
Думаю: у него была частица «тайны» Гоголя и Лермонтова.
«Демоничен» он был, я думаю, в высшей степени. Это был собственно единственный мною встреченный за всю жизнь человек с ясно выраженным в нем «демоническим началом». Больше я ни у кого не встречал. Все мы, русские, «обыкновенные» и «добрые». А-бы-ва-те-ли и повинующиеся г. исправнику. Вл. Соловьев в высшей степени «властей не признавал», и это было как-то метафизично у него, сверхъестественно; было как-то страшно и особенно. Михайловский, напр., «отрицал власти», и все «наши» вообще находятся с ним «в ап-па-зи-ции». Ну, это русское дело, русское начало, стихия русская. Дело в том и тайна в том, что Вл. Соловьев, рожденный от русского отца и матери (хохлушка) и имея такого «увесистого» братца, как Всеволод Соловьев, – был таинственным и трагическим образом совершенно не русский, не имея даже йоты «русского» в физическом очерке лица и фигуры. Он был как бы «подкидыш» у своих родителей, и «откуда его принесли – неведомо». Отсюда страшное отрицание «исправника». Он ни чего не нес в себе от русской стихии власти и от русского врожденного и всеобщего «ощущения» власти» хотя бы и «ругаешь». – «А, ты ругаешь – значит, я есть», – говорит власть Михайловскому. Соловьеву она не могла ничего подобного сказать: он ее не видел, не знал, не осязал. Как странным образом он «не осязал» и русской земли, полей, лесов, колокольчиков, васильков, незабудок. Как будто он никогда не ел яблок и вишен! Виноград – другое дело: ел. И т. д. Странный. Страшный. Необъяснимый. Воистину – Темный.
Отсюда его расхождения, напр., со Страховым, Данилевским, Ив. С. Аксаковым, с «памятью Киреевского и Хомякова» – имели особенный и для меня по крайней мере страшный характер. Он и когда «сходился», «дружился», «знакомился» с ними – ничего к ним ровно не чувствовал; и разойдясь – не чувствовал боли, страдания. «Крови из раны не текло». Страшным и таинственным образом (тут у него сходство с Мережковским) я не предполагаю вообще в нем бытия какой-нибудь крови, и если бы порезать палец ему – потекла бы сукровица, вода. А кровь? Не умею вообразить. Вот не сказал ему тогда: «Влад. Серг., – если бы вам порезаться – у вас бы не вытекло крови». Уверен: он задрожал бы от страха (и тоски): это главная его тайна. Итак, он «разошелся» – ибо никогда не был с ними», со Страховым, Ив. Аксаковым, Катковым. «Отвалился – не имея ничего общего». Как… как… как «василек». И «дифференциальное исчисление», «минута Вечности» и «акционерная компания», как «Конек-Горбунок» и «Веданта» браминов.
Как наш Михайловский с Платоном и Аристотелем.
«И он, отвернувшись, зашагал к старому, подняв воротник», – рассказывает о Ставрогине и его дуэли с Миусовым Достоевский. Собственно, «стрелял» Миусов… А Ставрогин? – Да его на дуэли и не было.
Так вот и Влад. Соловьев: хоть он «вел полемику» с Данилевским, Страховым, но… его в самом деле не было тут, крови его не было, сердца его не было. «Текли чернила и сукровица». Да и вообще в Соловьеве, вот как и в Мережковском, есть какая-то странная (и страшная для меня) ирреальность. «Точно их нет», «точно они не родились». А ходят между нами привидения, под псевдонимом «Соловьев», «Мережковский».
Я тут не умею выразить, «доказать» то, что чувствую с необыкновенною яркостью, упорством. В этом суть всего. Я как-то упоминал раз (в афоризмах), что есть странные люди (таинст ценные), не оставляющие следа от себя, физического впечатления, как бы неосязаемые, бесплотные, а только «звенящие», «говорящие», спорящие и почти всегда очень талантливые. Люди «без запаха в себе» – допущу выражение. «Был», а когда ушел – то «им не пахнет». Пожал руку – а пота его на вашей руке не оставил; «Собакевич-с – это факт». Собакевич – отвратителен: но нельзя же вовсе «без Собакевича в себе», хоть в одном мизинчике, хоть в строении кишок, хоть в чем-нибудь неприличном. Демон-Гоголь знал, что он писал – когда писал «Собакевича»: он писал вечную, «пока мы на земле», человеческую грузность, человеческую грубость, человеческую физиологичность. «Я съел осетра». Подло. Но пожалуй, еще подлее, ибо окончательно страшно, когда человек ничего не ест, ни даже – малявочки, ни одной – плотицы, ниже таракана глотает и мухи. Такой – страшен. «Без Собакевича – страшно». В Соловьеве и не было этой вечно человеческой сути, нашей общей, нашей простой, нашей земной и «кровянистой». Тень. Схема. «Воспоминание» о нем есть, а «присутствия его никогда не было». Это очень странно, и опять я умею только сказать, чаю чувствую, и никак не умею доказать.
Люди не тяжеловесные. Люди, ходящие по земле и не вдавливающие в землю свою ногу. Не «воняющие», «не пахнущие». Непременно он ездит только на извозчике, а не «ходит пешком». – «Влад. Серг. вышел прогуляться и через 2 часа будет дома» – нельзя сказать, услышать, невозможно это. Отчего? – Не знаю отчего, а – невозможно. Ровно такой будет жить «в номерах», «гостить у приятеля»: но ни к кому не станет «на хлеба». «Соловьев харчуется там-то»: опять нельзя выговорить, и просто этого не было. «Соловьев женился», «Соловьев празднует имянины», «у Соловьева сегодня – пирог»: фу, небылицы!! Он только «касается перстами» жизни, предметов, струн, вашей шеи, ваших губ – как «дух» в «спиритическом сеансе». Уверен, что хотя, «влюблены были в него многие», но он никого решительно, ни одной девушки и женщины, не «поцеловал взасос» (бывают такие), и ни одной не сказал, «прикоснувшись губами»: «Давай – еще Я!» Надо бы проследить, есть ли у него «восклицательные знаки» и «многоточия» – симптомы души в рукописании, и печати. Очень бы любопытно. Но в литературе я знаю, что он все «плел слова», «сшивал из страницы статьи», «силлогизировал», «делал выводы»; но не помню, чтобы раскричался в литературе, разгневался, нагрубил, наговорил резкостей и негодований. «Медленно каплет чернильный яд» но нигде «укуса», «рванул», – жизни.
«И вот завыл волком» (Белинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого ни о чем у себя не мог бы сказать С-в. У него везде звон, фразы, щелканье фраз, силлогизмы. Точно не течет речь (кровь), а речь – составлена из слов. «Слова» же он знал, как ученый человек, прошедший и университет, и Дух. Академию. Соловьев усвоил и запомнил множество слов, русских, латинских, греческих, немецких, итальянских, индийских, – философских, религиозных, эстетических: и из них делал все новые и новые комбинации, с искусством, мастерством, талантом, гением. Но родного-то слова между ними ни одного не было, все были чужие…
И он все писал и писал…
И делался все несчастнее и несчастнее…
Нет, господа: о нем надо петь панихиды. «Нашими простыми умиленными русскими голосами». С пра-тадь-яконом. В протодьяконе – вот в нем уже есть ВЕС. «Это-с не из спиритического сеанса».
Владимир Соловьев. Стихотворения
Издание 6-е, значительно дополненное, с вариантами, библиографическими примечаниями, биографией и 2 портретами. М., 1915.
Наше время безвнимательно к литературе. В вышедшем 6-м издании «Стихотворений Владимира Соловьева», редактированном племянником его, тоже поэтом Сергеем Соловьевым, помещено в конце 27 стихотворений, или совершенно доселе неизвестных, или известных лишь в отрывках. Нужно сказать, что Сергей Соловьев, хотя находится в большом богословском споре с знаменитым дядею, тем не менее в общем является наиболее полным и наиболее правоспособным преемником, толкователем, возражателем и проч. Владимира Соловьева, а через это – и наилучшим и самым естественным его издателем. Как хорошо известно, с братом своим Всеволодом, романистом, Соловьев вовсе не дружил и в конце жизни даже раззнакомился. В убеждениях и, главным образом, в их нравственной личности не было ничего общего. Поэтесса Поликсена Сергеевна Соловьева («Allegro») слишком только поэтесса, чтобы хорошо воспринять, усвоить и особенно сколько-нибудь разобрать умственное наследие брата-философа. Михаил Сергеевич, младший брат философа, был скромным преподавателем в одной из московских гимназий, никогда ничего не писал, был тихим, молчаливым, скромным человеком: но он был в высшей степени содержателен, был мыслителем «без пера» и похоти литературного выражения и, может быть, по этим качествам своим, находившимся в контрасте с качествами и, отчасти, слабостями брата Владимира, был ему особенно мил, приятен и уважителен. Можно даже наблюдать некоторую не резко выраженную зависимость Владимира от Михаила. Тихий, умный, все понимавший, счастливый семьянин, Михаил Соловьев был для шумного и вечно пылающего Владимира тем ангелом, на которого взирает и Абадонна. Мы, конечно, не сравниваем с Абадонною Владимира Соловьева, столь насыщенного богословием, – но «раздираемый в мыслях и стремлениях», Владимир Соловьев имел нечто в себе и «от Абадонны». И вот, положительно можно наблюдать, что его тянуло в тихую квартирку Михаила, – тянуло поздороветь, тянуло полечиться литературно и всячески от «грехов» и «слабостей» политики и журналистики. Скромный Михаил в сущности выражал в себе стержневое качество Соловьевского рода, – происходившего от священства и связанного с русскою историею. Вот этой-то силы и искал хлебнуть у него бурный, увлекавшийся и «ходивший по всем путям» Владимир Соловьев. Обо всем этом было еще известно при жизни Владимира Соловьева, – но с напечатанием его писем, собранных проф. Э. Л. Радловым, это совершенно выяснилось. Владимир Соловьев интимно и горячо был связан из своего родства только с братом Михаилом и с ним находился в непрерывном, постоянном, личном или через переписку общении. И вот – Михаил рано, в среднем возрасте умирает. В минуту его смерти покончила самоубийством горячо ему преданная жена. Единственный их сын, Сережа, остался круглым сиротою что-то около 14 лет. Но вырос, оперился, сам стал поэтом, и очень выразительным, сам рвется и в философские, и в богословские выси. Но «родовой стержень» отца перешел к нему. В то время как Владимир Соловьев отдал лучшие и самые продолжительные годы жизни странствованию где-то «в преддверии» католичества по Руси и национальному ее чувству нанес если не жестокие, то колючие едкие удары и царапины, племянник его Сергей есть прямо русский человек и просто русский человек. В минувшем году он напечатал в «Богословском вестнике», органе московской духовной академии, разбор и резкую критику богословской системы дяди своего Владимира, отнесясь совершенно отри цательно к его католическим тенденциям и высказываясь твердо за полное сохранение всяческого status quo православия. Статья эта очень радовала. Такой молодой автор и такой твердый тон! Позднее, именно, в минувшем году, я услышал от художника Мих. Вас. Нестерова поразившую меня весть: что человек светского образования и выдающийся поэт, – к тому же совершенно счастливый семьянин, Сергей Соловьев порывается всеми силами принять священнический сан и стать рядовым иереем. Но тут «в Руси ничего не разберешь»: оказалось возможным ему оказать препятствие, и почему-то бывший обер-прокурор Св. Синода, Самарин, лично знающий и лично очень уважающий юного Соловьева, именно употребил все усилия, чтобы не допустить Соловьева до иерейства. В рассказе М. В. Нестерова звучит тот оттенок, что не вполне доверяют устойчивости Сергея Соловьева, – опасаются дальнейших «уклонений». Вот уж, поистине, – «волка бояться – в лес не ходить». Куда же деваться прозелитам, верующим? Об этом не подумано. Против «уклонения», притом лишь предполагаемого, всегда есть средство: снятие сана. Но можно ли не воспользоваться горячею верою, допустимо ли отвергать эту веру, совершенно доказанную и ярко выраженную в упомянутой выше его статье в «Богосл. Вестнике»? Неужели в иереи допускать только «холодных» и не могущих по этому качеству хладости уже никуда увлечься. Не искал ли Спаситель и апостолы всегда горячих, не изрек ли Иоанн Богослов о теплохладных знаменитое на все века памятное слово: «Ты – не горяч и не холоден? О, если бы ты был горяч! Но понеже ты не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих, – говорит Господь». Выразительно. Но что выразительно и гремит как гром, на весь мир – то на Руси часто едва слышно: – Нас «не удивишь», и мы все «полеживаем».
Этот-то Сергей Михайлович Соловьев «младший», в отличие от деда, знаменитого историка, с тем же именем и отчеством, издал стихотворения Владимира Соловьева, уже шестым тиснением, открыв в рукописном материале отца и деда 27 стихотворений, из которых некоторые поистине прекрасны. Например, что же может быть прекраснее, задушевнее и поэтичнее этого восьмистишия:
Старую песню мне сердце поет,
Старые сны предо мной воскресают,
Где-то далеко цветы расцветают,
Голос волшебный звучит и зовет.
Чудная сказка жива предо мной,
В сказку ту снова я верю невольно…
Сердцу так сладко и сердцу так больно…
На душу веет нездешней весной.
Как оно характерно для личности и даже для биографии Влад. Соловьева, – для него только одного во всей нашей литературе.
Это стихотворение до сих пор неизвестно было ни в одной строке. А вот четырехстишие, все состоящее из одних придаточных предложений: но, вообразите, до чего странно: их не хочется оканчивать, они полны уже, и Соловьев каким-то инстинктом удержался его кончить:
Если ветер осенний безжалостно смел
Все, чем в жизни душа любовалась,
Если сад твоих грез безвозвратно отцвел,
Если трость твоей веры сломалась…
Не правда ли, не надо кончать? Зачем кончать? Конец лучше не выговаривать, ибо он именно так страшен, печален и скорбен, что его лучше всего выразить… прерванной речью, молчанием или жестом руки, жестом безнадежности и отчаяния… Удивительное стихотворение, удивителен самый способ выразить тягостное душевное состояние.
Недурны и остальные стихотворения; есть дурные, передающие известную соловьевскую гримасу и гримасничанье, напр.:
Город глупый, город грязный!
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной
Скуки, сна, галиматьи.
И т. д.
В том же роде грязноватое стихотворение-сатира, посвященное кн. Мещерскому:
О ты, средь невского содома
Хранящий сердце в чистоте…
Эти гримасничающие стихотворения Соловьева, сквозь которые просвечивают истерические слезы, вообще не украшают томика его стихов. Увы, их, однако, довольно много, около 13 или?.. Нельзя их выкинуть, ибо они написаны, ибо они были… Наконец, их нельзя выкинуть, как вообще характеристику его полуистерической личности… Но и поэзия, и личность умаляются в эти шуточках, пародиях, в этих полуклеветах…
Содома князь и гражданин Гоморры…
Кому это нужно и интересно? и даже чего это касается, кроме кухни и спальни «подсудимого»?.. Мы отворачиваемся от поэта и от стихотворения, решительно отказываясь судить и даже говорить на все эти темы.
Шестое издание за 17 лет! Конечно, Соловьев есть признанный поэт России, и поэтическая его долговечность переживет и философскую, и богословскую. И в философии, и в богословии он, пожалуй, имеет местное, русское значение; и именно – значение возбудителя, значение бродильного начала. Ему недоставало чего-то спокойного, вечного и величавого. Он принадлежит промежуточным или начальным (по характеру именно возбуждения) умам, а не к умам завершающим или оканчивающим. Это, впрочем, и естественно на Руси, где ничего самостоятельного и оригинального не появлялось, где вечно «толклись» люди около Канта, Гегеля, Шеллинга, Огюста Конта, Шопенгауэра и Ницше… Толклись, писали, старались, – но никто и никакой решительно прибавки от себя ни к чему не сделал. Философия русская отсутствует; и на этой обширной площади с надписью: «предмет отсутствует», появление Соловьева, с его плаванием туда и сюда, с его расплескиванием волн во всевозможных направлениях – весьма естественно. Полезно ли? На это ответит будущее.
Не могу не обратить этих слов в особенности к вниманию молодой и. прекрасной (если не обманет) надежды нашей литературы, сына его покойного брата Мих. Серг. Соловьева Серг. Мих. Соловьева. Он очень, по-видимому, размышлял над этими темами; ему – долго жить, много писать. Тема эта – великая, необъятная. В ней можно совершенно запутаться, войдя не в ту дверь. И мне хочется указать ему настоящую. Все изложенное мною о VII главе моральной философии и есть ответ, который мне тогда же хотелось, но я не мог дать на некоторые резкие, но полные непонимания его упреки в отношении меня, помещенные в письме-статье о любви и поле в «Вопросах Жизни» за 1905 год. «Покрывала Изиды не надо открывать», т. е. подымать его перед миром, показывать, делать находящееся под ним базарным: не надо, ибо тогда тотчас «Изида и божество» превратилась бы в ничто, персть, может быть, – гниль, зловоние. Ей-ей, молитвы и не было бы, начни ее выбивать на барабане; но самому и уединенно, ночью, крадучись, можно и нужно «войти под покров Изиды», «чтобы научиться всякой мудрости». И назавтра сказать, что ничего не было и нигде не был. Так именно хорошо был затаен Нафанаил, «которого никто не видел» – кроме Христа…
Из «Мимолетного» 8 июля 1915 г.
8. VII.1915
Многообразный, даровитый, нельзя отрицать даже гениальный Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем вертящегося начала: тогда как философия прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь б. шум и нельзя отрицать – даже суета. Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента – в философию. Он «вливался» в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами: и пенился, и плескался, и обмывал «философские темы» литературным языком и литературною душою.
Это еще более, нежели к философии, относится к его богословию. В нем не было sacer[225 - Священный (лат.).] и не было sapiens[226 - Мудрый (лат.).]. Вот в чем дело.
В КОРНЕ – писатель, один из даровитейших, один из разностороннейших в России. Ему параллели лежат – в Пико-де-Мирандолла, в Герцене. Но какая же параллель ему в Канте или в Декарте? В Беркли или в Малебранше?
Небо философии безбурно. А у Вл. Соловьева вечный ветер. И звезды в этом философском небе – вечны, а «все сочинения». Влад. Соловьева были «падучие звездочки», – и каждая переставала гореть почти раньше, чем вы успевали сказать «желание». Что-то мелькающее. Что-то преходящее. Потом это его желание вечно оскорблять – фуй! Какой же это философ, который скорее ищет быть оскорбленным, или равнодушен к оскорблению, и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым, с (пусть нелепыми) «российскими радикал-реалистами», с русскими богословами, с «памятью Аксакова, Каткова и Хомякова» до того чудовищна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно газетному языку, что вызывает одно впечатление: «фуй! фуй! фуй!»
Проза его, я думаю, вся пройдет. Просто он не будет читаться иначе как для темы «самому написать диссертацию о Соловьеве». Но ведь так и Пико-де-Мирандолла «еще существует».
Но останутся вечно его стихи… Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, «Пушкин – алмаз», «Тютчев – жемчуг». Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. «Кошачий глаз»? (очень красивый и без намеков) – топаз? аквамарин? Может быть – красивая, редкая, «настоящая персидская» бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение вечно и прекрасно. Оно где-то между Тютчевым и Алексеем Толстым. Но в некоторых стихо творениях он даже единственно прекрасен. Между прочим как он неблагороден и немудр в прозе, – в стихах он и благороден и мудр. Отчего – не понимаю.
Между прочим, лично, он положил на меня впечатление какого-то ненасытного заведования, «ревнования» к другим и – оклеветания. Он почти не мог выносить похвалы другому или, особенно если заметит ваше тайное, «вырывающееся» лишь, восхищение к другому. Тут он точно ножницами «отхватывал» у вас едва вырвавшийся кусочек похвалы, (о Гилярове-Платонове: слова его ужасные, если б была правда, что «он был атеист», «ни в какого» Бога не верил» и «никакой религии не имел»). Единственно, где он жестко остановил меня, – было о Стасюлевиче (коего я очень не люблю), – и я почти благодарен, что он остановил меня. Иначе впечатление от него (С-ва) осталось бы во мне каким-то сплошным мраком.
Рцы незадолго до своей смерти сказал мне очень меня удивившее слово: «Я все время чувствовал его завистливым, – пока, сидел с ним у вас». Удивительно. Рцы очень зорок. Сказал это он мне без моего вопроса, «сам» и как «свое».
Грусть – всегда у меня о С-ве. Я его не любил. Но что он глубоко несчастен и каким-то внутренним безысходным (иррациональным) несчастием – это было нельзя не чувствовать.
Вот уже скажешь: «Господи! успокой его смятенную душу».
Думаю: у него была частица «тайны» Гоголя и Лермонтова.
«Демоничен» он был, я думаю, в высшей степени. Это был собственно единственный мною встреченный за всю жизнь человек с ясно выраженным в нем «демоническим началом». Больше я ни у кого не встречал. Все мы, русские, «обыкновенные» и «добрые». А-бы-ва-те-ли и повинующиеся г. исправнику. Вл. Соловьев в высшей степени «властей не признавал», и это было как-то метафизично у него, сверхъестественно; было как-то страшно и особенно. Михайловский, напр., «отрицал власти», и все «наши» вообще находятся с ним «в ап-па-зи-ции». Ну, это русское дело, русское начало, стихия русская. Дело в том и тайна в том, что Вл. Соловьев, рожденный от русского отца и матери (хохлушка) и имея такого «увесистого» братца, как Всеволод Соловьев, – был таинственным и трагическим образом совершенно не русский, не имея даже йоты «русского» в физическом очерке лица и фигуры. Он был как бы «подкидыш» у своих родителей, и «откуда его принесли – неведомо». Отсюда страшное отрицание «исправника». Он ни чего не нес в себе от русской стихии власти и от русского врожденного и всеобщего «ощущения» власти» хотя бы и «ругаешь». – «А, ты ругаешь – значит, я есть», – говорит власть Михайловскому. Соловьеву она не могла ничего подобного сказать: он ее не видел, не знал, не осязал. Как странным образом он «не осязал» и русской земли, полей, лесов, колокольчиков, васильков, незабудок. Как будто он никогда не ел яблок и вишен! Виноград – другое дело: ел. И т. д. Странный. Страшный. Необъяснимый. Воистину – Темный.
Отсюда его расхождения, напр., со Страховым, Данилевским, Ив. С. Аксаковым, с «памятью Киреевского и Хомякова» – имели особенный и для меня по крайней мере страшный характер. Он и когда «сходился», «дружился», «знакомился» с ними – ничего к ним ровно не чувствовал; и разойдясь – не чувствовал боли, страдания. «Крови из раны не текло». Страшным и таинственным образом (тут у него сходство с Мережковским) я не предполагаю вообще в нем бытия какой-нибудь крови, и если бы порезать палец ему – потекла бы сукровица, вода. А кровь? Не умею вообразить. Вот не сказал ему тогда: «Влад. Серг., – если бы вам порезаться – у вас бы не вытекло крови». Уверен: он задрожал бы от страха (и тоски): это главная его тайна. Итак, он «разошелся» – ибо никогда не был с ними», со Страховым, Ив. Аксаковым, Катковым. «Отвалился – не имея ничего общего». Как… как… как «василек». И «дифференциальное исчисление», «минута Вечности» и «акционерная компания», как «Конек-Горбунок» и «Веданта» браминов.
Как наш Михайловский с Платоном и Аристотелем.
«И он, отвернувшись, зашагал к старому, подняв воротник», – рассказывает о Ставрогине и его дуэли с Миусовым Достоевский. Собственно, «стрелял» Миусов… А Ставрогин? – Да его на дуэли и не было.
Так вот и Влад. Соловьев: хоть он «вел полемику» с Данилевским, Страховым, но… его в самом деле не было тут, крови его не было, сердца его не было. «Текли чернила и сукровица». Да и вообще в Соловьеве, вот как и в Мережковском, есть какая-то странная (и страшная для меня) ирреальность. «Точно их нет», «точно они не родились». А ходят между нами привидения, под псевдонимом «Соловьев», «Мережковский».
Я тут не умею выразить, «доказать» то, что чувствую с необыкновенною яркостью, упорством. В этом суть всего. Я как-то упоминал раз (в афоризмах), что есть странные люди (таинст ценные), не оставляющие следа от себя, физического впечатления, как бы неосязаемые, бесплотные, а только «звенящие», «говорящие», спорящие и почти всегда очень талантливые. Люди «без запаха в себе» – допущу выражение. «Был», а когда ушел – то «им не пахнет». Пожал руку – а пота его на вашей руке не оставил; «Собакевич-с – это факт». Собакевич – отвратителен: но нельзя же вовсе «без Собакевича в себе», хоть в одном мизинчике, хоть в строении кишок, хоть в чем-нибудь неприличном. Демон-Гоголь знал, что он писал – когда писал «Собакевича»: он писал вечную, «пока мы на земле», человеческую грузность, человеческую грубость, человеческую физиологичность. «Я съел осетра». Подло. Но пожалуй, еще подлее, ибо окончательно страшно, когда человек ничего не ест, ни даже – малявочки, ни одной – плотицы, ниже таракана глотает и мухи. Такой – страшен. «Без Собакевича – страшно». В Соловьеве и не было этой вечно человеческой сути, нашей общей, нашей простой, нашей земной и «кровянистой». Тень. Схема. «Воспоминание» о нем есть, а «присутствия его никогда не было». Это очень странно, и опять я умею только сказать, чаю чувствую, и никак не умею доказать.
Люди не тяжеловесные. Люди, ходящие по земле и не вдавливающие в землю свою ногу. Не «воняющие», «не пахнущие». Непременно он ездит только на извозчике, а не «ходит пешком». – «Влад. Серг. вышел прогуляться и через 2 часа будет дома» – нельзя сказать, услышать, невозможно это. Отчего? – Не знаю отчего, а – невозможно. Ровно такой будет жить «в номерах», «гостить у приятеля»: но ни к кому не станет «на хлеба». «Соловьев харчуется там-то»: опять нельзя выговорить, и просто этого не было. «Соловьев женился», «Соловьев празднует имянины», «у Соловьева сегодня – пирог»: фу, небылицы!! Он только «касается перстами» жизни, предметов, струн, вашей шеи, ваших губ – как «дух» в «спиритическом сеансе». Уверен, что хотя, «влюблены были в него многие», но он никого решительно, ни одной девушки и женщины, не «поцеловал взасос» (бывают такие), и ни одной не сказал, «прикоснувшись губами»: «Давай – еще Я!» Надо бы проследить, есть ли у него «восклицательные знаки» и «многоточия» – симптомы души в рукописании, и печати. Очень бы любопытно. Но в литературе я знаю, что он все «плел слова», «сшивал из страницы статьи», «силлогизировал», «делал выводы»; но не помню, чтобы раскричался в литературе, разгневался, нагрубил, наговорил резкостей и негодований. «Медленно каплет чернильный яд» но нигде «укуса», «рванул», – жизни.
«И вот завыл волком» (Белинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого ни о чем у себя не мог бы сказать С-в. У него везде звон, фразы, щелканье фраз, силлогизмы. Точно не течет речь (кровь), а речь – составлена из слов. «Слова» же он знал, как ученый человек, прошедший и университет, и Дух. Академию. Соловьев усвоил и запомнил множество слов, русских, латинских, греческих, немецких, итальянских, индийских, – философских, религиозных, эстетических: и из них делал все новые и новые комбинации, с искусством, мастерством, талантом, гением. Но родного-то слова между ними ни одного не было, все были чужие…
И он все писал и писал…
И делался все несчастнее и несчастнее…
Нет, господа: о нем надо петь панихиды. «Нашими простыми умиленными русскими голосами». С пра-тадь-яконом. В протодьяконе – вот в нем уже есть ВЕС. «Это-с не из спиритического сеанса».
Владимир Соловьев. Стихотворения
Издание 6-е, значительно дополненное, с вариантами, библиографическими примечаниями, биографией и 2 портретами. М., 1915.
Наше время безвнимательно к литературе. В вышедшем 6-м издании «Стихотворений Владимира Соловьева», редактированном племянником его, тоже поэтом Сергеем Соловьевым, помещено в конце 27 стихотворений, или совершенно доселе неизвестных, или известных лишь в отрывках. Нужно сказать, что Сергей Соловьев, хотя находится в большом богословском споре с знаменитым дядею, тем не менее в общем является наиболее полным и наиболее правоспособным преемником, толкователем, возражателем и проч. Владимира Соловьева, а через это – и наилучшим и самым естественным его издателем. Как хорошо известно, с братом своим Всеволодом, романистом, Соловьев вовсе не дружил и в конце жизни даже раззнакомился. В убеждениях и, главным образом, в их нравственной личности не было ничего общего. Поэтесса Поликсена Сергеевна Соловьева («Allegro») слишком только поэтесса, чтобы хорошо воспринять, усвоить и особенно сколько-нибудь разобрать умственное наследие брата-философа. Михаил Сергеевич, младший брат философа, был скромным преподавателем в одной из московских гимназий, никогда ничего не писал, был тихим, молчаливым, скромным человеком: но он был в высшей степени содержателен, был мыслителем «без пера» и похоти литературного выражения и, может быть, по этим качествам своим, находившимся в контрасте с качествами и, отчасти, слабостями брата Владимира, был ему особенно мил, приятен и уважителен. Можно даже наблюдать некоторую не резко выраженную зависимость Владимира от Михаила. Тихий, умный, все понимавший, счастливый семьянин, Михаил Соловьев был для шумного и вечно пылающего Владимира тем ангелом, на которого взирает и Абадонна. Мы, конечно, не сравниваем с Абадонною Владимира Соловьева, столь насыщенного богословием, – но «раздираемый в мыслях и стремлениях», Владимир Соловьев имел нечто в себе и «от Абадонны». И вот, положительно можно наблюдать, что его тянуло в тихую квартирку Михаила, – тянуло поздороветь, тянуло полечиться литературно и всячески от «грехов» и «слабостей» политики и журналистики. Скромный Михаил в сущности выражал в себе стержневое качество Соловьевского рода, – происходившего от священства и связанного с русскою историею. Вот этой-то силы и искал хлебнуть у него бурный, увлекавшийся и «ходивший по всем путям» Владимир Соловьев. Обо всем этом было еще известно при жизни Владимира Соловьева, – но с напечатанием его писем, собранных проф. Э. Л. Радловым, это совершенно выяснилось. Владимир Соловьев интимно и горячо был связан из своего родства только с братом Михаилом и с ним находился в непрерывном, постоянном, личном или через переписку общении. И вот – Михаил рано, в среднем возрасте умирает. В минуту его смерти покончила самоубийством горячо ему преданная жена. Единственный их сын, Сережа, остался круглым сиротою что-то около 14 лет. Но вырос, оперился, сам стал поэтом, и очень выразительным, сам рвется и в философские, и в богословские выси. Но «родовой стержень» отца перешел к нему. В то время как Владимир Соловьев отдал лучшие и самые продолжительные годы жизни странствованию где-то «в преддверии» католичества по Руси и национальному ее чувству нанес если не жестокие, то колючие едкие удары и царапины, племянник его Сергей есть прямо русский человек и просто русский человек. В минувшем году он напечатал в «Богословском вестнике», органе московской духовной академии, разбор и резкую критику богословской системы дяди своего Владимира, отнесясь совершенно отри цательно к его католическим тенденциям и высказываясь твердо за полное сохранение всяческого status quo православия. Статья эта очень радовала. Такой молодой автор и такой твердый тон! Позднее, именно, в минувшем году, я услышал от художника Мих. Вас. Нестерова поразившую меня весть: что человек светского образования и выдающийся поэт, – к тому же совершенно счастливый семьянин, Сергей Соловьев порывается всеми силами принять священнический сан и стать рядовым иереем. Но тут «в Руси ничего не разберешь»: оказалось возможным ему оказать препятствие, и почему-то бывший обер-прокурор Св. Синода, Самарин, лично знающий и лично очень уважающий юного Соловьева, именно употребил все усилия, чтобы не допустить Соловьева до иерейства. В рассказе М. В. Нестерова звучит тот оттенок, что не вполне доверяют устойчивости Сергея Соловьева, – опасаются дальнейших «уклонений». Вот уж, поистине, – «волка бояться – в лес не ходить». Куда же деваться прозелитам, верующим? Об этом не подумано. Против «уклонения», притом лишь предполагаемого, всегда есть средство: снятие сана. Но можно ли не воспользоваться горячею верою, допустимо ли отвергать эту веру, совершенно доказанную и ярко выраженную в упомянутой выше его статье в «Богосл. Вестнике»? Неужели в иереи допускать только «холодных» и не могущих по этому качеству хладости уже никуда увлечься. Не искал ли Спаситель и апостолы всегда горячих, не изрек ли Иоанн Богослов о теплохладных знаменитое на все века памятное слово: «Ты – не горяч и не холоден? О, если бы ты был горяч! Но понеже ты не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих, – говорит Господь». Выразительно. Но что выразительно и гремит как гром, на весь мир – то на Руси часто едва слышно: – Нас «не удивишь», и мы все «полеживаем».
Этот-то Сергей Михайлович Соловьев «младший», в отличие от деда, знаменитого историка, с тем же именем и отчеством, издал стихотворения Владимира Соловьева, уже шестым тиснением, открыв в рукописном материале отца и деда 27 стихотворений, из которых некоторые поистине прекрасны. Например, что же может быть прекраснее, задушевнее и поэтичнее этого восьмистишия:
Старую песню мне сердце поет,
Старые сны предо мной воскресают,
Где-то далеко цветы расцветают,
Голос волшебный звучит и зовет.
Чудная сказка жива предо мной,
В сказку ту снова я верю невольно…
Сердцу так сладко и сердцу так больно…
На душу веет нездешней весной.
Как оно характерно для личности и даже для биографии Влад. Соловьева, – для него только одного во всей нашей литературе.
Это стихотворение до сих пор неизвестно было ни в одной строке. А вот четырехстишие, все состоящее из одних придаточных предложений: но, вообразите, до чего странно: их не хочется оканчивать, они полны уже, и Соловьев каким-то инстинктом удержался его кончить:
Если ветер осенний безжалостно смел
Все, чем в жизни душа любовалась,
Если сад твоих грез безвозвратно отцвел,
Если трость твоей веры сломалась…
Не правда ли, не надо кончать? Зачем кончать? Конец лучше не выговаривать, ибо он именно так страшен, печален и скорбен, что его лучше всего выразить… прерванной речью, молчанием или жестом руки, жестом безнадежности и отчаяния… Удивительное стихотворение, удивителен самый способ выразить тягостное душевное состояние.
Недурны и остальные стихотворения; есть дурные, передающие известную соловьевскую гримасу и гримасничанье, напр.:
Город глупый, город грязный!
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной
Скуки, сна, галиматьи.
И т. д.
В том же роде грязноватое стихотворение-сатира, посвященное кн. Мещерскому:
О ты, средь невского содома
Хранящий сердце в чистоте…
Эти гримасничающие стихотворения Соловьева, сквозь которые просвечивают истерические слезы, вообще не украшают томика его стихов. Увы, их, однако, довольно много, около 13 или?.. Нельзя их выкинуть, ибо они написаны, ибо они были… Наконец, их нельзя выкинуть, как вообще характеристику его полуистерической личности… Но и поэзия, и личность умаляются в эти шуточках, пародиях, в этих полуклеветах…
Содома князь и гражданин Гоморры…
Кому это нужно и интересно? и даже чего это касается, кроме кухни и спальни «подсудимого»?.. Мы отворачиваемся от поэта и от стихотворения, решительно отказываясь судить и даже говорить на все эти темы.
Шестое издание за 17 лет! Конечно, Соловьев есть признанный поэт России, и поэтическая его долговечность переживет и философскую, и богословскую. И в философии, и в богословии он, пожалуй, имеет местное, русское значение; и именно – значение возбудителя, значение бродильного начала. Ему недоставало чего-то спокойного, вечного и величавого. Он принадлежит промежуточным или начальным (по характеру именно возбуждения) умам, а не к умам завершающим или оканчивающим. Это, впрочем, и естественно на Руси, где ничего самостоятельного и оригинального не появлялось, где вечно «толклись» люди около Канта, Гегеля, Шеллинга, Огюста Конта, Шопенгауэра и Ницше… Толклись, писали, старались, – но никто и никакой решительно прибавки от себя ни к чему не сделал. Философия русская отсутствует; и на этой обширной площади с надписью: «предмет отсутствует», появление Соловьева, с его плаванием туда и сюда, с его расплескиванием волн во всевозможных направлениях – весьма естественно. Полезно ли? На это ответит будущее.