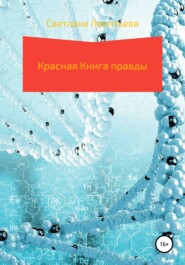По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ситцевая флейта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и подумать: «Дитя в теплых овцевых яслях,
научи нас родиться в кормушке, обмаслясь,
где пучки из соломы, где снизки и свясло,
вол, телёнок и овцы – дыханием греться…»
Научи собирать в нас разверстое сердце
и дыши в нас. Дыши! О, малец сероглазый!
Пряно. Свято. Светло. В грешных нас, несуразных.
А затем на Голгофу. С разбойником рядом.
Научи быть великим. Негиблым. Распятым.
И скукоженным тельцем в крест вжаться. Так, Отче,
в Рождество нам на землю послал Сына ночью.
Это можно понять лишь умом надвселенским!
Можно телом принять ни мужским и ни женским:
в этих косточках птичьих и спинках стерляжьих.
А толпа нарастает. Идёт служба дальше…
Нет бездонней могил.
Нет живее убитых.
Нет любимей распятых.
Нет жальче невинных.
…А дитя в тёплых овцевых яслях глядит так,
что слезами давлюсь я:
О, Сыне!
О, Сыне!
***
Она маскировалась подо всё:
под страсть, под нежность, ссоры и разлуку.
Она убьёт, спасёт и вознесёт,
похожая на боль и лженауку!
Судьбу свою скормила ей: держи!
Я все клубки у Ариадн смотала.
А ей – она же вечная – всё мало,
многоэтажной, что ей этажи?
Ей невдомёк, она без языка,
что в Вавилоне языков смешенье.
Она так низко падала – жестка!
И возносилась до изнеможенья!
Не просто щёки, я ей всё лицо
и всю себя подставила – не жалко!
Под это небо, отсвет чей свинцов,
фаршемешалка, соковыжималка.
Сама себе и жертва и палач!
Как от любви я голову теряла,
и всё равно – ей вечной! – было мало
всех городов в груди, высоких мачт
и Пенелоп, что ткали одеяла!
Хоть пой, хоть вой, а хоть пляши и плачь!
…ты в Китежах моих, в моих столетьях,
что свили гнёзда в птичьих позвонках,
и тот, кого люблю – теперь в веках,
и оттого, что я люблю, ты весь вне смерти!