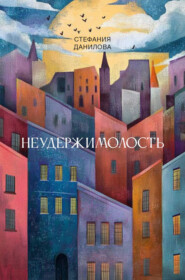По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Веснадцать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наш диалог ниочемно вечен –
ты мною в книгах увековечен
тем, что сжигаешь меня, как свечи.
Где-то включают свет.
Я приезжаю к тебе на кофе,
ты его варишь совсем как профи,
я наблюдаю, как строг твой профиль –
вечер близится к катастрофе,
не опознают ведь.
Мы – спайка личных местоимений,
чтобы шарахались в онеменье
с Тмутаракани и до Тюмени
люди, сидящие на измене
и на дурман-траве.
Я собираю в подол звезды.
Ты говоришь, что уже поздно,
ты мной прочувствован мозгом костным –
весь такой прозовый или прозный,
радует, что не прост.
Нас, выбегающих из подъезда,
сфотографирует некий бездарь.
Нас впереди ожидает бездна,
через которую интересно
будет построить мост.
«Дождь отблистал, отпричитал, откапал, больше язык…»
Дождь отблистал, отпричитал, откапал, больше язык
Дороги неразличим. Незачем плакать и опускаться на пол,
и соскребать предутренние лучи.
После, конечно, кто-то допишет повесть – там и любовь
меж строк, и такая горесть, та, от которой камень горючий
плачь. Тот, кто влюбился, только что познакомясь, сам же
себе с терновым венцом палач.
Их будет жалить, как там тебе ни жаль их, снова
схлестнётся зло на мечах с добром.
Только Предназначение на скрижалях ни зачеркнуть, ни
вырубить топором.
Кто-то перерезает чужие судьбы, и, забывая вглядываться
в суть их, кормит влюбленных стылым кошачьим супом,
найденным за плитою молочным зубом,
перележалым
желудём из-под дуба, сводит с ума, с дороги, на нет, к нулю…
Этому, знаешь ли, я не то чтоб рад, но…
Только любую нитку соткать обратно может одно
искрящееся «люблю».
«Мы говорим о том, что пиво – хрень…»
Мы говорим о том, что пиво – хрень, но по стакану пропустить стабильно по вечерам мы, челку набекрень, не против, обличая нелюбимых. Мы говорим такие словеса: в трехмерке моделируют моделей, а сами же рыдаем на весах, за дело нас модели-то задели. Мы говорим о нас, всегда о нас, о нашем внутреннем мироустройстве, о том, что Вова носит Адидас, и ест дешевый сторублевый ростбиф, о том, что он вонюч, что он небрит, что у него растут четыре грыжи, а что он знает хинди и иврит, нас почему-то вовсе не колышет. Мы говорим о Свете из шестой, чем промышляет Света – ясно, ясно, гуляет в мини-юбочке потрясной – танцует по ночам с большим шестом, конечно, стриптизерша, многолюбка, мы любим Свету грязью поливать – а то, что Света просто любит юбки, так нам на это просто наплевать. Мы говорим о том, что чай остывший по вкусу, как ослиная моча, не замечая – нас уже не слышат, что означает – нужно помолчать.
Алиса в Заэкранье
живем экранно мы, живем компьютерно, забыв шафрановый предвоздух утренний, живем контактово, живем журнально мы, а ведь когда-то нам весны проталины мечтой мерещились при зимних залежах, на стенах трещинки в глаза бросались же, и переспелые плоды лимонные, и кто – отеллово, кто дездемоново, на них нет дела нам, ну ни малейшего, мы – черно-белые с оттенком лешего, мы все – по бложекам, да по ливджорналам, мы все заложены скалой тяжёлою.
комменты любим мы, да чтоб побольше, и – быть злостно-лютыми нам не положено, читаем паблики, постим статеечки, и что нам зяблики да канареечки, плевать, что задано, зачем кого-то нам, раз есть варкрафтовый да перфектворлдовый. поставь сердечко мне, комменты в студию, инет-словечками… да где же судьи-то?
едва проснувшись мы, бежим к компьютерам. и слышим с ужасом:
ну, с добрым утром.
«У нее – блондинистая грива…»
У нее – блондинистая грива, накладные черные ресницы, губы улыбаются игриво, в мыслях – рестораны, море, Ницца, маникюр на выхоленных пальцах, розовое плюшевое сердце, в нем всегда менялись постояльцы, смотришь на нее – не насмотреться.
У меня – прокуренные космы, левый глаз косит немного влево, я собой не воплощаю космос, пуп Земли, принцессу, королеву. Я могу отдаться вся стихами, творческий неколебимый принцип – я могу в любом трамвайном хаме высмотреть хоть сказочного принца. Я – как Гудвин, хочешь – будешь храбрым, научу спасать меня от смерти и любой другой абракадабры в адовой вопящей круговерти, хочешь – гордость для тебя достану, сделаюсь по всем фронтам тусклее – только если сбросят с пьедестала, я тебя обратно не заклею. Только сердце выковать не в силах из любвепригодных полимеров – потому что кто бы ни просил их, получалось им не по размеру… Всем они разительно огромны – не легла удачливая карта, все поплыли на плоту Харона, слегшие с инфарктом миокарда. Всем я бескорыстно помогаю, каждый мой клиент чертовски вежлив – только я негодница такая, и услуги все мои медвежьи. Я – без пары старенький ботинок, даже испитым бомжам не нужен. Все, кого люблю, возьмут блондинок, и они им романтичный ужин со свечами красными устроят, постирают шмотки, осексуют, после их нежданно станет трое, я останусь за порогом всуе. Быть отфотошопленной картинкой и любить мужчин за крепкий бицепс… Хочется до боли быть блондинкой, чтобы хоть один сумел влюбиться.
«Нет, здесь не живут звездокрылые чудные феи…»
Нет, здесь не живут звездокрылые чудные феи,
И по мановению палочки не появиться
Проспектам в очках из витрин и пальто из кофеен,
В кармане пальто – словно плеер, живые певицы,
Соборам – у них купола словно вычертил циркуль,
По глади лазоревой золото звезд разбежалось.
А там, на окраинах, что-то таится – не цирк ли?
Пустырь – живописен, и вовсе не давит на жалость.
Нет, эти колонны – не голени белых атлантов,
а что-то похожее на идеальные зубы.
Мой город похож на мужчину – немного патлатый,
невыспавшийся по утрам и бровями насуплен.
По рекам холодным течет эта кровь голубая,
Немного больная от вредных микробов-бутылок.
Не будем сегодня о грустном, что не улыбает.
Мой город тебе по ночам тихо дышит в затылок.
Ему захотелось побольше зеленых оттенков.
Глаза габаритных огней покраснели от ночи,
От улицы, от фонарей, и, конечно, аптеки.
Я в черном, от этого городу не одиночей.
А гости летят мотыльками в светящийся Питер,
На голос проспектов, таинственный запах кофеен,
Летят без оглядки, без цели, без спросу…
Терпите!
Вас встретит мужчина.
В зеленом плаще, я уверен.
«– Хочешь, я научу тебя говорить…»
– Хочешь, я научу тебя говорить,
что не под силу ни одному врачу?
ты мною в книгах увековечен
тем, что сжигаешь меня, как свечи.
Где-то включают свет.
Я приезжаю к тебе на кофе,
ты его варишь совсем как профи,
я наблюдаю, как строг твой профиль –
вечер близится к катастрофе,
не опознают ведь.
Мы – спайка личных местоимений,
чтобы шарахались в онеменье
с Тмутаракани и до Тюмени
люди, сидящие на измене
и на дурман-траве.
Я собираю в подол звезды.
Ты говоришь, что уже поздно,
ты мной прочувствован мозгом костным –
весь такой прозовый или прозный,
радует, что не прост.
Нас, выбегающих из подъезда,
сфотографирует некий бездарь.
Нас впереди ожидает бездна,
через которую интересно
будет построить мост.
«Дождь отблистал, отпричитал, откапал, больше язык…»
Дождь отблистал, отпричитал, откапал, больше язык
Дороги неразличим. Незачем плакать и опускаться на пол,
и соскребать предутренние лучи.
После, конечно, кто-то допишет повесть – там и любовь
меж строк, и такая горесть, та, от которой камень горючий
плачь. Тот, кто влюбился, только что познакомясь, сам же
себе с терновым венцом палач.
Их будет жалить, как там тебе ни жаль их, снова
схлестнётся зло на мечах с добром.
Только Предназначение на скрижалях ни зачеркнуть, ни
вырубить топором.
Кто-то перерезает чужие судьбы, и, забывая вглядываться
в суть их, кормит влюбленных стылым кошачьим супом,
найденным за плитою молочным зубом,
перележалым
желудём из-под дуба, сводит с ума, с дороги, на нет, к нулю…
Этому, знаешь ли, я не то чтоб рад, но…
Только любую нитку соткать обратно может одно
искрящееся «люблю».
«Мы говорим о том, что пиво – хрень…»
Мы говорим о том, что пиво – хрень, но по стакану пропустить стабильно по вечерам мы, челку набекрень, не против, обличая нелюбимых. Мы говорим такие словеса: в трехмерке моделируют моделей, а сами же рыдаем на весах, за дело нас модели-то задели. Мы говорим о нас, всегда о нас, о нашем внутреннем мироустройстве, о том, что Вова носит Адидас, и ест дешевый сторублевый ростбиф, о том, что он вонюч, что он небрит, что у него растут четыре грыжи, а что он знает хинди и иврит, нас почему-то вовсе не колышет. Мы говорим о Свете из шестой, чем промышляет Света – ясно, ясно, гуляет в мини-юбочке потрясной – танцует по ночам с большим шестом, конечно, стриптизерша, многолюбка, мы любим Свету грязью поливать – а то, что Света просто любит юбки, так нам на это просто наплевать. Мы говорим о том, что чай остывший по вкусу, как ослиная моча, не замечая – нас уже не слышат, что означает – нужно помолчать.
Алиса в Заэкранье
живем экранно мы, живем компьютерно, забыв шафрановый предвоздух утренний, живем контактово, живем журнально мы, а ведь когда-то нам весны проталины мечтой мерещились при зимних залежах, на стенах трещинки в глаза бросались же, и переспелые плоды лимонные, и кто – отеллово, кто дездемоново, на них нет дела нам, ну ни малейшего, мы – черно-белые с оттенком лешего, мы все – по бложекам, да по ливджорналам, мы все заложены скалой тяжёлою.
комменты любим мы, да чтоб побольше, и – быть злостно-лютыми нам не положено, читаем паблики, постим статеечки, и что нам зяблики да канареечки, плевать, что задано, зачем кого-то нам, раз есть варкрафтовый да перфектворлдовый. поставь сердечко мне, комменты в студию, инет-словечками… да где же судьи-то?
едва проснувшись мы, бежим к компьютерам. и слышим с ужасом:
ну, с добрым утром.
«У нее – блондинистая грива…»
У нее – блондинистая грива, накладные черные ресницы, губы улыбаются игриво, в мыслях – рестораны, море, Ницца, маникюр на выхоленных пальцах, розовое плюшевое сердце, в нем всегда менялись постояльцы, смотришь на нее – не насмотреться.
У меня – прокуренные космы, левый глаз косит немного влево, я собой не воплощаю космос, пуп Земли, принцессу, королеву. Я могу отдаться вся стихами, творческий неколебимый принцип – я могу в любом трамвайном хаме высмотреть хоть сказочного принца. Я – как Гудвин, хочешь – будешь храбрым, научу спасать меня от смерти и любой другой абракадабры в адовой вопящей круговерти, хочешь – гордость для тебя достану, сделаюсь по всем фронтам тусклее – только если сбросят с пьедестала, я тебя обратно не заклею. Только сердце выковать не в силах из любвепригодных полимеров – потому что кто бы ни просил их, получалось им не по размеру… Всем они разительно огромны – не легла удачливая карта, все поплыли на плоту Харона, слегшие с инфарктом миокарда. Всем я бескорыстно помогаю, каждый мой клиент чертовски вежлив – только я негодница такая, и услуги все мои медвежьи. Я – без пары старенький ботинок, даже испитым бомжам не нужен. Все, кого люблю, возьмут блондинок, и они им романтичный ужин со свечами красными устроят, постирают шмотки, осексуют, после их нежданно станет трое, я останусь за порогом всуе. Быть отфотошопленной картинкой и любить мужчин за крепкий бицепс… Хочется до боли быть блондинкой, чтобы хоть один сумел влюбиться.
«Нет, здесь не живут звездокрылые чудные феи…»
Нет, здесь не живут звездокрылые чудные феи,
И по мановению палочки не появиться
Проспектам в очках из витрин и пальто из кофеен,
В кармане пальто – словно плеер, живые певицы,
Соборам – у них купола словно вычертил циркуль,
По глади лазоревой золото звезд разбежалось.
А там, на окраинах, что-то таится – не цирк ли?
Пустырь – живописен, и вовсе не давит на жалость.
Нет, эти колонны – не голени белых атлантов,
а что-то похожее на идеальные зубы.
Мой город похож на мужчину – немного патлатый,
невыспавшийся по утрам и бровями насуплен.
По рекам холодным течет эта кровь голубая,
Немного больная от вредных микробов-бутылок.
Не будем сегодня о грустном, что не улыбает.
Мой город тебе по ночам тихо дышит в затылок.
Ему захотелось побольше зеленых оттенков.
Глаза габаритных огней покраснели от ночи,
От улицы, от фонарей, и, конечно, аптеки.
Я в черном, от этого городу не одиночей.
А гости летят мотыльками в светящийся Питер,
На голос проспектов, таинственный запах кофеен,
Летят без оглядки, без цели, без спросу…
Терпите!
Вас встретит мужчина.
В зеленом плаще, я уверен.
«– Хочешь, я научу тебя говорить…»
– Хочешь, я научу тебя говорить,
что не под силу ни одному врачу?