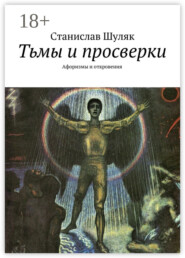По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бла-бла-бла. Роман-каверза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В общем, повозился он этак минут десять, умаялся и разозлился, наконец, встал над нею на колени и быстро-быстро кончил девице на живот, поспособствовавши себе умелой десницей.
Она потрогала на себе клейкую лужицу. Энгусов молчал.
– Что? – спросила девица.
– Ничего!
– А всё-таки?
– Я домой!
– Семеро по лавкам, что ли, ожидают? – пыталась пошутить она.
– Не семеро, – строго отвечал Энгусов. – Жена беременная от другого. Ждёт! Я обещал позвонить и не позвонил.
Морякова помолчала в растерянности. Залепила Энгусову пощёчину, но попала по плечу. Не больно и не обидно! Подумаешь, девица блажит!
– Иди! – упавшим голосом сказала Морякова.
Энгусов зажёг свет, стал одеваться. Чёрт, а девица была хороша! И в глазах её блестели слёзы.
Раньше надо было блестеть слезами!
Образ голенькой Моряковой преследовал его, когда он угрюмо пёрся по ночным улицам Петроградки. «Эх, – грезил он, – привести бы её сегодня ко мне! А старухе сказать: ты никогда, мол, в меня не верила, а вот же и помоложе некоторых нашлись и меня любят!»
Так думал Энгусов. Что же думала девица Морякова – сие нам не ведомо, девичьи разумения укрыты от нас.
В кино же девица действительно снялась. Даже два раза. Сначала в групповой эротической сцене в одной этакой картине, слюнявой, криводушной и растопорщенной (из современных), потом уж и вовсе в порнушке (правда, с претензией на артхаус). Тогда же подцепила гонорею, после лечилась полгода. Потом ещё столько же, но по другой методике. Так вот её кинематографическая карьера понемногу сошла на нет.
Что ещё об девице Моряковой можно сказать? Ничего, пожалуй! Об ней и так уж было много сказано!
«Дорожи карьерой своей лже-писателя, – записал в ту ночь Энгусов. – Обжигайся хладным пламенем лже-очага!»
Он нередко записывал что-нибудь этакое…
О Гнойном Семени и замысловатом тинейджере
Слова, слова, тщетные логосы, и ещё этот гнусный мальчишечий выговор… слишком двенадцатилетний для двенадцатилетнего, такой у него выговор!.. Подлая артикуляция! И ведь, в сущности, во всякий из дней – одно и то же! А не должно одно и то же происходить во всякий из дней, новому дню следует нести новое разнообразие, изощрённую повапленность, сатирическую специфику, исключительные нормативы.
Отрок Илия, Гнойное Семя, по нынешнему подразумению, тинейджер Илюшка, постоялец щенячества:
– Ма-ам! Зуб болит!
– Что ещё?
– Сердце.
– И только-то?
– Дай таблетку!
– От чего?
– От живота.
– У тебя же сердце.
– И ключица.
– А голова уже прошла?
– Болит ещё сильнее.
Энгусов и не хочет слышать, а всё ж слушает поневоле. Думает даже замотать голову полотенцем, но знает, что всё равно станут прорываться эти постылые два голоса.
У него свой уголок, «писательский» уголок, стол возле окна – видны клочок двора, детская площадка, и жасмин – тот самый жасмин, но почти на тринадцать лет старше! (разрослись за эти годы сии паскудные кусты, но цветов пока нет, хотя и май на дворе) – угол дома напротив. Это его пространство, Энгусов не хочет оным ни с кем делиться, здесь создавались его лучшие рассказы, реалии, резоны, субординации и оратории. И ещё много чего создавалось здесь, в этом сверхчеловеческом монплезире!
Он и сейчас малодушно помышляет о новом романе. Хоть и обещал себе не писать ничего вовсе. «Пускай дураки пишут!» – кипятится Энгусов. Но как же не писать, когда стол у окна и электрический агрегат с экраном, с буквами, копирайтами, колонтитулами и чудесами фотошопа влекут его?! К тому же это… свобода! Единственно возможная для него. Свобода от ежедневного существования – а вы что подумали?!
Пока же роман не пишется, пишутся вирши. Слово за слово: Энгусов разогнался и быстро отшлёпал на клавишках неказистый стишок:
Притворюсь терпеливым мужем
Несчастливой, игривой жены.
Самому ль этот заговор нужен?
И приманки ль кому-то нужны?
Вот я в доме, но мысли снаружи,
Восстанут в памяти старые сны
И рисунки заоконной стужи
На кирпичных изгибах стены.
Энгусов перечитал написанное, распечатал. «Ударение немного гуляет, а так ничего! – сказал себе он. – В „Звезду“ отнести или в Москву послать? Наверное, всё-таки в Москву, там журналов много. Надо только ещё штук пять-шесть досочинить. Или взять что-то из старого? И это ничего, что ударение гуляет, у Пушкина тоже гуляло».
– Открой рот! Шире! – склонилась Галина над сыном, на постели сидящим.
– А-а-а! – пасть разевая.
– Горло чистое.
– А глотать не могу!
– Что тебе глотать?