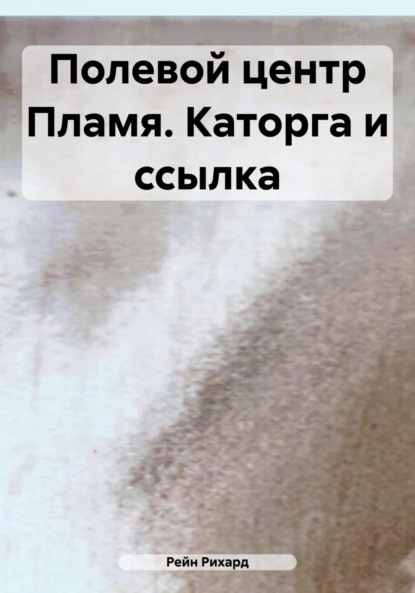По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока что поезд стоял без движения, наш конвой над нами изрядно здесь издевался, продолжая это и по дороге в Валк, куда нас ночью отправили, но это издевательство, по сравнению с тем, что было на платформе станции Валк, являлось лишь шуточкой. По доставлении к часу или двум пополуночи на станцию Валк, нас вывели на платформу станции и выстроили по четыре человека в ряд. Холод был невероятный, а большинство из нас было одето весьма плохо, мы стояли, дрожа всем телом, кого-то ожидая. Наш поездной конвой сменился другим, не помню, какого полка были эти солдаты и в каких зверинцах их держали напоказ до усмирения нашего восстания, – в жизни чего-либо подобного я никогда не видел и не слышал. За два с лишним часа, пока мы ожидали прибытия генерала Орлова посмотреть на нас, у этих солдат другого разговора не было, как только о том, что у кого отрезать, как выколоть глаза, за что повесить, какие ремни на что, где и у кого вырезать и тому подобное. Продрогшие, мы молча ждали, когда же это мучение кончится, кое-кто не выдержал и стал стыдить их, что, однако, вызвало лишь хохот конвоя и усиление надругательств с его стороны.
Наконец, появился и сам генерал, который, приняв рапорт, поблагодарил молодцев за службу и, пройдя мимо нас, как бы поощряя солдатские надругательства над нами, сказал:
– Ничего, ничего, мы с ними рассчитаемся! – и приказал отвести нас в приготовленное место.
Шли мы быстро (должно быть, и солдаты продрогли) и от этого по дороге немного согрелись, во время ходьбы задних подталкивали прикладами. Нас привели в арестный дом, сдали по счету заведующему арестным помещением и дежурному казацкому офицеру, охрана перешла к находящимся в арестном доме казакам.
Мы чувствовали себя как-то особенно усталыми, ибо многие из нас, будучи все предыдущие дни чрезвычайно заняты, почти двое суток ничего не ели, да и промерзли как следует. Поэтому нас уже не интересовал вопрос о том, что будет с нами, а каждый думал лишь об одном – как бы скорее прилечь, хотя бы на каменном полу, и отдохнуть, но до отдыха было еще далеко. Нас стали вызывать по одному в контору, при чем каждого сопровождали два казака, из конторы отведенных туда товарищей через некоторое время мимо нас вели обратно, но разговаривать не позволялось, и поэтому мы не знали, что происходит в конторе, предполагая, что там угощают нагайками. Пришел и мой черед. Оказалось, что в конторе тщательно обыскивали и записывали имена, отчества и фамилии, сколько лет и откуда; больше никаких вопросов не задавали. Попав в соседнюю камеру, каждый из нас, без длинных разговоров с другими товарищами, сейчас же свертывался на полу для того, чтобы отдаться сну, но не успели еще последние войти в камеру и прилечь, как с другой стороны открылась вторая дверь, и в нее было брошено несколько грязных, полных вшей матрацев. Пришлось снова встать и распределять места; но оказалось, что сделать это не так просто, ибо было так тесно, что можно было лечь только на бок; поэтому некоторые, не желая лечь около парашки, предпочли присесть на корточках в углу и вздремнуть. Кое-как устроившись, мы снова предались сну, засыпая, я слышал, как стоявшие у дверей с форточкой казаки-часовые, разговаривая между собой, удивлялись нашему сну:
– «Удивительно, как такие крамольники, не признающие ни царя, ни бога, могут спать без зазрения совести и стыда таким крепким сном».
Итак, мы находились в тюрьме. Проснувшись утром, мы увидели, что за ночь весь арестный дом уже переполнился вновь арестованными товарищами из разных мест Прибалтики. Обе камеры рядом были не меньше переполнены, чем наша, через дверную щель одной из камер нам рассказывали о повсеместно происходящих арестах, расстрелах и порках. Поэтому нас очень удивляло, почему никто из нас не был еще до сих пор расстрелян, но впоследствии выяснилось, что подполковник, кажется, Марков, руководивший карательными отрядами Руенского района, где-то запьянствовал и, расстреляв несколько десятков рабочих и батраков в районе Поленгофа за сочувствие революционному движению, застрял в одном из имений, а по прибытии в местечко Руен уже не застал главарей, ибо отправленные из Руена без документов, без записей даже по фамилиям, а просто по счету и размещенные не только по тюрьмам и арестным домам, но и по баням и специально для арестованных очищенным больницам, мы, руенцы, смешались с другими арестованными, так что к прибытию палача Маркова некого было расстреливать.
Тем не менее Марков все же нашел себе жертву, расстреляв арестованного в местечке Салисбург девятнадцатилетнего мальчика Гольде.
Проголодавшись, мы стали требовать пищи, администрация арестного дома, заявив, что все будет подано своевременно, удалилась, однако с выдачей хлеба, соли и кипятку справилась только к 11-ти часам утра. Так как ни чаю, ни сахару, ни посуды у нас не было, а забранные у нас деньги находились в конторе тюрьмы и на них покупать нам ничего не разрешали, то приходилось ограничиться лишь хлебом и солью. Насыпав соли на полученные нами ломти хлеба (примерно, с фунт), мы уплетали его в обе щеки, так что в несколько минут у большинства из нас ничего ни на обед, ни на ужин не осталось. Человека четыре, скорчившиеся в углу и окончательно загрустившие, совсем не ели – им было не до еды: их интересы расходились с нашими, они не участвовали в революционном движении и были арестованы по наговору своих врагов, поэтому, понятно, и чувствовали себя не в своей тарелке. Все наши доводы, что незачем им горевать и не есть, что придет время и их дела разберут и тогда освободят – ни к чему не привели.
На ветер, то есть во двор или клозет, нас не пускали, заявляя, что в камере имеется парашка, однако, последняя была уже полна, и мы требовали дать нам возможность куда-нибудь ее вылить, но и этого мы добились не скоро, так как персонал, обслуживавший ранее двадцать-тридцать человек арестованных, покуда что остался без пополнения, а в арестном доме находилось уже около триста-четыреста набитых, как селедки в бочку, человек, после долгих хлопот все же парашка была опорожнена.
Часам к четырем-пяти нам подали обед – горячие, на сале сваренные щи, подали их в нашу камеру, на всех 16 человек, в трех больших глиняных чашках; дали и четыре деревянных ложки. Так как столиков и скамеек в камере не было, а находившийся около окна шкафчик не мог воспринять всех трех чашек, мы, усевшись группами на полу около чашек со щами, приступили к трапезе: хлебнув по ложке и передавая ее другому товарищу, мы перешучивались между собой. Хлеба, как я уже сказал, у большинства не осталось, наши товарищи – случайники, не приступая и к обеденной трапезе, предложили нам свой хлеб, мы, конечно, с благодарностью его приняли и, распределив между собою, еще больше повеселели. Кто-то вспомнил какой-то старый латышский анекдот про семь братьев, у которых за обедом была всего одна чашка супу и одна ложка, притом супу было настолько мало, что если бы они съели его без перерыва, то остались бы такими же голодными, как до начала еды, и поэтому, посоветовавшись между собою, умники решили после каждой ложки супа забрасывать последнюю на печь, чтобы, растягивая трапезу, в поисках за ложкой, можно было бы заморить червячка. Мы находились почти в таком же положении, и некоторые предлагали последовать примеру семи братьев и забрасывать ложки на печку, которая, кстати сказать, находилась в нашей камере. Так за разговором мы и не заметили, как опустошили наши чашки; все же в животе чувствовался голод, но делать было нечего, так как на наш звонок о прибавке нам ответили, что больше не дадут.
После обеда одни прилегли, а другие, расхаживая, как тигры в клетке, раздумывали, как бы раздобыть табак или папиросы, пробовали завести разговор с казаками, однако, это ни к чему не привело, и в ответ на наши начинания нам пригрозили нагайками.
Вечером мы все же сделали попытку вызвать надзирателя и просили хотя бы за свои деньги принести нам хлеба, но и в этом нам было отказано. Пришлось лечь спать на голодный желудок и ждать следующего утра, когда снова подадут полуголодную норму хлеба, соли и кипятку. Утром хлеб был подан и точас же нами съеден, и так продолжалось ежедневно, вплоть до перевода нас во Псков.
Из разговора выяснилось, что кто-то, при всей тщательности обыска, ухитрился пронести с собою две золотых пятерки: значит, надо было попытать счастья на приобретение папирос или табаку у часовых, выждав их смены. В 12 часов дня сменился караул и, вместо казаков, к нашей форточке, наружному окну и на всех постах были приставлены пехотинцы. Сейчас же мы завели разговор с часовым у форточки; оказалось, что этот часовой был солдатом в человеческом облике, и сказав нам, чтобы мы немного обождали, и выждав подходящий момент, он сунул нам в форточку две папироски; поблагодарив его, мы попросили сидевших в смежной камере товарищей, где имелась печка, сунуть нам вниз под дверь уголёчек, и получив его, с осторожностью, в углу, один за другим затягивались по-дымочку. После такого счастливого начинания, мы обратились вторично к нашему другу-часовому, спросив, не может ли он после смены купить нам побольше папирос на наши собственные деньги. Сказав, что это для него будет небезопасно, так как проходящие солдаты и тюремная администрация могут это заметить, и он может очутится вместе с нами за решеткой, в то же время он посоветовал обратиться за этим к наружному часовому, при чем обещал своей фигурой заслонить форточку, чтобы с этой стороны наши действия не были видны. Поблагодарив его за человеческое и товарищеское отношение к нам, мы сейчас же приступили к делу, но так как форточка нашего наружного окна была проделана в верхней его части и нам нелегко было до нее добраться, то пришлось объясниться с наружным часовым мимикой. Мы показывали ему пальцами, что хотим курить, что у нас есть деньги и что часовой, стоящий у нашей форточки, нам не может помочь, что мы просим его купить нам папирос и после смены каким-нибудь способом доставить, после долгого непонимания мы в конце концов все же с ним договорились – он кивком головы дал нам свое согласие и, указывая глазами на форточку, предложил выкинуть деньги. Завернув одну пятерку в тряпочку и встав друг другу на плечи, мы тотчас же бросили ему деньги, попросив его при этом, если у него имеется несколько папирос, дать их нам авансом, подняв деньги, пройдясь немного и спросив глазами, все ли у следующей форточки благополучно, он на штыке подал нам пачку папирос, в которой было что-то около семи-восьми штук, знаками мы усиленно поблагодарили его.
Часовые сменились, пришло обеденное время, пришел и вечер, а папирос все еще нам не приносили; прошла и ночь, наступило утро—и все же папирос не было. Вновь сменился караул, и мы, грешным делом, уже было подумали, что наш друг нас надул, но все же еще, хотя и в маленькой надежде, караулили у форточки внутренней двери. Сменившийся караул стал уже проходить, как вдруг наш друг, отделившись от общей массы часовых и приблизившись к нашей форточке, направил свой кулак в сторону моего носа с возгласом:
– Что, сволочь, бельми-то свои выпучил!
А в это же время из рукава его шинели высыпалось на пол нашей камеры четыре пачки папирос, две коробки спичек и сверточек в бумажке с чем-то более тяжелым. Благодарить его было бессмысленно, так как можно было выдать; и мы, подобрав папиросы, спички и сверточек, в котором оказался полностью остаток денег, в душе посылали ему тысячу благодарностей.
Сейчас, двадцать лет спустя, я не могу не вспомнить с радостью об этом сереньком часовом, у которого и тогда, в дни наивысшего расцвета реакции, под серой шинелью билось пролетарское сердце, с радостью вспомнят его и все те живые товарищи, которые в то время сидели со мною в валкском арестном доме.
После этого случая, мы имели еще ряд ему подобных, когда часовые стали нам передавать не только папиросы и спички, но и подчас белую булку и колбасу, что не раз облегчало нашу серую тюремную жизнь. К новому году, после посещения тюрьмы тюремным начальством, во главе с уездным воинским начальником, нам разрешили «выписку», то есть приобретение на свои собственные деньги продуктов и курева. Таким образом, эти заботы с нас спали, но в то же время нас одолевала другая, более серьезная неприятность – нас съедали паразиты, которые из-за отсутствия чистого белья (как своего, так и казенного), а также – бани и прогулки, развелись настолько, что никакого человеческого терпения нехватало бороться с ними: все наши усилия изловить их и ставить под гильотину для убиения ни к чему не приводили, все заявления начальству приготовить для нас баню, дать нам хотя бы свое белье, оказались безрезультатны, и только после совместных категорических требований в первых числах января нам стали передавать белье – и то лишь тем, чьи родные, разыскав своих, приносили белье – таких счастливчиков было немного.
Около этого же времени начались вызовы в контору— к прокурору, специально назначенному для разбора, дел арестованных и для определения судимости. Для многих эти вызовы кончались административными наказаниями, в большинстве случаев – арестом от двух недель до трех месяцев, причем подчас между прокурором, который не имел никаких обвинительных материалов, и заключенными происходила торговля из-за сроков наказания.
Пришла и моя очередь. У прокурора возникло сомнение, действительно ли я тот, которого арестовали, а затем снова разыскивали, не считая меня арестованным. Было отдано распоряжение доставить сейчас же к допросу и другого Рейна, находящегося под стражей в какой-то больнице или бане, к этому свиданию двух Рейнов была вызвана руенская полиция, в том числе и младший помощник уездного воинского начальника Пржиалговский, оказалось, что второй Рейн— это мой брат. При очной ставке с братом и полицейскими выясняли, кто из нас тот, которого разыскивали. Полицейские заверили, что разыскиваемым Рейном являюсь именно я и что мой брат ни в чем не участвовал, подтвердил это положение и я сам, после чего брата освободили и приступили к моему допросу. Все обвинения, выдвинутые против меня полицейскими, я категорически оспаривал. Прокурор, предлагал мне во всем сознаться, ловил меня на удочку, обещая, в случае признания своей вины, наказать меня лишь в административном порядке и заявляя, что по отбытии этого административного наказания я буду свободен и никто уже меня не сможет арестовать, так как за одно и то же дело два раза не наказывают. Для меня эти соловьиные песни были понятны: прокурору, не имевшему вещественных доказательств, нужно было мое признание, и поэтому я категорически отрицал все возводимые на меня обвинения. Тогда решено было отдать меня под суд.
Так как с каждым днем в городе Валк прибывали все новые и новые арестованные, а мест уж нехватало, то предполагалось часть заключенных отправить в город Псков. Каждый из нас с нетерпением ждал дня отправки, так как грязь и паразиты нас окончательно доняли – люди ходили, как тени. Отправка первой партии была назначена на седьмое января 1906 года, до этого я виделся с братом, который, к моей радости, привез мне деньги, кое-что из продуктов и белье, уведомив, что он своим освобождением, приездом и сообщением, что я жив, очень обрадовал старушку-мать, с отцом мы не ладили, и поэтому ни от него, ни к нему приветов не было.
Седьмого января первую партию заключенных под усиленной охраной вывели на улицу, построив в ряды, кажется, по восемь человек, стали всех перевязывать друг с другом веревками, при чем последние затягивались так туго, что кровь застывала в жилах. По всему этапу прошел ропот, и мы стали требовать, чтобы нас развязали. В результате наших требований был вызван начальник этапа, помню, явился молоденький офицер и, крепко выругавшись, приказал подать ему перочинный нож; разрезав узлы первого ряда и приказав освободить и остальных от веревок, он прибавил:
– Не скотину же мы отправляем.
Веревки были сняты, и этап двинулся на вокзал. В надежде на лучшую тюрьму, освобождение от паразитов и преисполненные некоторыми мечтами, мы бодро шагали к вокзалу.
Войдя в вагоны и видя со стороны нашего нового начальства человеческое к нам отношение, мы, в момент отправки, попросили офицера разрешить нам разместиться так, чтобы земляки попали в одни вагоны, а также позволить нам на выданные нам на руки собственные деньги приобрести Местного и папирос, и то и другое было разрешено. Поезд тронулся, и мы, как пчелы в своих ульях, зашумели, загалдели, обмениваясь впечатлениями, пережитыми с момента ареста.
По прибытии во Псков, мы были выстроены на перроне и, под команду «марш», двинулись к городу; на вокзале было много публики, особенно старух. Наш начальник этапа, молоденький офицер, был в веселом настроении и видя, что старухи начали креститься, а некоторые, крестясь, отплевываться, крикнул:
Дай дорогу прибалтийцам!
Нас привели в исправительные арестантские роты (впоследствии псковский централ), которые были очищены, – за исключением кашеваров, коридорных и прочих уголовных, – и приготовлены для нас.
В тюрьме между начальником этапа и дежурным помощником тюремного начальника произошел инцидент.
Оказалось, что у начальника этапа, кроме списка арестованных, никаких документов о нас не было, а дежурный помощник без таковых не принимал.
Дело грозило осложнениями для нас, так как начальник этапа, рассердившись, что нас не принимают, заявил, что отведет нас обратно, нам это не улыбалось.
К счастью, каждый из них по своей линии созвонился с начальником, и конфликт был улажен. Нас разместили в светлых больших комнатах. Мы попросили назавтра дать нам баню, показывая, что все мы покрыты паразитами: нам это обещали, обещали и продезинфицировать наше белье и одежду, заменив их на время казенными.
Прежде чем перейти к беглым воспоминаниям о дальнейшем заключении, я немного отступлю назад и коснусь несколько событий, происходивших в Салисбурге после прихода карательной экспедиции генерала Орлова.
Как я уже сказал, девятнадцатого декабря 1905 года вечером, когда в бюро нашего «Полевого центра Пламя» ставился вопрос о том, подчиниться ли центру и сложить оружие или оказывать сопротивление войскам в партизанских боях, громя одновременно имения и появляющихся помещиков, – товарища Кришьяна Боча не было, он в это время находился в Риге по партийным делам. Вернувшись двадцать первого или двадцать второго декабря, то есть после того, когда уже и по Салисбургу прошел карательный отряд, и видя полный разгром Руенской организации и частично Салисбургской, Боч, разыскав нескольких вестовых, отдал им распоряжение собрать к двадцать третьему декабря в полном вооружении в местечко Салисбург оставшиеся отряды, выставив патрули на десятиверстном расстоянии на всех дорогах и установив связь с Руеном, он устроил митинг, предварительно обезоружив вновь вооруженных полицейских. На митинге было решено сжечь Салисбургское имение, разгромить винный и пивоваренные заводы, а затем приступить к разгрому имений по всей окрестности. Отпустив, подобру-поздорову, старого барона-помещика с палочкой и необходимыми ему вещами на все четыре стороны, дружинники подожгли имение, вино и пиво выпустили из баков и погребов, после чего, разбившись по мелким группам, отряды собирались уже было отправиться на сжигание окрестных имений,—как в этот момент, по связи из Руена, было получено сообщение о том, что опять через Руен на Салисбург направляются новые карательные отряды и что эти отряды прибудут в Руен к десяти часам. Так как уже было около восьми часов вечера и предполагалось, что эти карательные отряды прибудут точно к десяти часам, то тут же, в виду того, что разгромить имения в такой короткий срок было немыслимо, отряды были распущены по домам с тем, чтоб, спрятав свое оружие, они могли бы быть снова собраны, когда это потребуется.
Как оказалось потом, карательные отряды прибыли не к десяти часам вечера, но к десяти часам следующего утра, а в Салисбурге очутились лишь около двенадцати часов, когда и начали там расправу. Всего было изрублено и застрелено одиннадцать человек, пришедших утром на спиртной завод полакомиться остатками разлитого спирта.
На этом восстание в нашем районе кончилось, и началась жестокая расправа карательных экспедиций, помимо убитого в местечке Руен товарища Гольде и многочисленных арестов, беспощадно производилась порка казацкими нагайками от двадцати пяти до семидесяти пяти ударов, многие из-под порки выходили еле-еле живыми.
Возвращаясь к дальнейшим воспоминаниям о тюремной жизни, остановлюсь на размещении нас в псковской тюрьме.
Как я уже сказал, нам обещали баню, белье и дезинфекцию, что и было исполнено на следующий день.
Освободившись от паразитов, мы ожили, да и пищи хватало: кое-что читать раздобыли, газету стали получать, передачи разрешили и тому подобное.
Небезынтересно будет узнать, как мы добывали газету, как вели нелегальную переписку с волей и как получали свежие новости. Передачи к нам в камеры поступали в раскрытой, но строго обысканной упаковке – в ящиках, корзиночках и тому подобное. Мы постарались тем или другим способом (через освобожденных, на свидании, перекинувшись вместо русского на латышском языке) сообщить об этом домашним и друзьям, после чего передачи стали поступать к нам в ящиках с двумя искусно вставленными днищами, стенками и проч., между которыми помещались целые газеты или необходимые вырезки из них, письма и деньги. Когда это было обнаружено, стали приносить передачи в корзинках, по большей части плетеных, куда наши друзья и ухитрялись вкладывать все необходимое. Когда на тщательных обысках и это было обнаружено и было запрещено передавать передачу в твердой упаковке, наши друзья перешли на другие хитрости, излагая нам новости на шелковой бумаге, заклеенной в боках или донышках бумажных кульков с гармошкой, затем перешли на колбасу, которая с завязанного конца продырявливалась, начинялась вместо мяса вырезками из газет, записками и прочее, после чего она снова перевязывалась шнурком и направлялась в тюрьму. Когда, наконец, при разрезке колбасы и этот способ был открыт, то пришлось пользоваться папиросами, из которых набивалась табаком лишь часть, а остальные заполнялись шелковыми записками, завернутыми в желтую бумагу.
Но и этой радости пришел конец. Тогда пришлось усилить связь через надежных тюремных надзирателей, платя им хорошие деньги за каждую «почту». В более сложных случаях, когда необходимо было передать на волю что-либо особенно секретное (предупреждение о возможном аресте товарища, обыске и прочее), мы пользовались стрелой, лук для коей был раздобыт с помощью уголовных заключенных и сделан из рукоятки кнута. Отправлялись эти сообщения так: раза три- четыре в неделю (а то и чаще) к тюрьме приходили две партийки-псковитянки, усаживались на скамеечке, находившейся наискось против централки, и, держа в руках по книге, словно читая, следили за нашим окном, мы же, в свою очередь, по тюремному телеграфу—с помощью платка – сообщали, что даем почту, и получив от них ответ, что все обстоит благополучно, пускали стрелу с обернутой запиской в стоявшее около скамейки дерево. Уткнувшаяся в дерево стрела немедленно снималась, с нее сдиралась записка, после чего наши «товарки» отправлялись для доставки ее по назначению.
Не всегда это дело проходило гладко. Как-то раз явившийся вместо девиц паренек, не учтя того, что около ворот, снаружи, расхаживает городовой, а также, не успев своевременно подхватить недолетавшую до дерева стрелу, очутился в перепалке: городовые засвистели и устремились за ним в погоню. К счастью, паренек сумел прыгнуть на первого попавшегося извозчика, а затем, очутившись у низкого забора, выскочил из дрожек, перелез через забор и, прячась по дворам и огородам, скрылся. Все это мы наблюдали через окно, и впредь приходилось действовать более осторожно, да и к нам стали относиться строже, заставляя почаще слезать с окна.
Благодаря всем вышеприведенным обстоятельствам, а также и тому, что тюремное начальство, во главе с начальником, прозванным Петрушкой, хотело нас прибрать к рукам, взаимоотношения заключенных с тюремной администрацией с каждым днем все больше и больше обострялись: то и дело возникали конфликты, вызывался тюремный инспектор или прокурор суда, тем не менее до марта месяца особенно крупных инцидентов не произошло.
Довольно аккуратно получая нелегально через надзирателей газеты, мы с особым интересом следили за восстанием матросов на Черном море, и когда прочли в газете о казни руководителя этого восстания лейтенанта Шмидта и его товарищей, матросов Частника, Глазова и Антоненко, – мы, все политические заключенные, решили в знак протеста против действий царских палачей и солидарности с погибшими товарищами, вывесив в окнах тюрьмы черные флаги с надписью, устроить однодневную голодовку. Знамена мы изготовляли из черных и красных рубашек, буквы же для надписей вырезывали из белой бумаги; флаги прикреплялись к древкам из лучин, полученных через уголовных заключенных. Точно не могу установить, на Какое число был назначен траур, но помню, что вскоре после исполнения приговора над вышеназванными товарищами и в 10 часов утра. В назначенный день и час по тюремному телеграфу было передано – пора, и в тот же миг в окнах появились флаги, во всех камерах раздалось дружное – «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и другие революционные песни. Раздались тревожные свистки тюремных надзирателей-постовых, заработали тюремные звонки – и через три минуты по коридорам уже зашагали конвойные, бряцая оружием, конвой во главе с тюремной администрацией, в том числе и Петрушки, в первую голову направился в нашу, восемнадцатую камеру, старший надзиратель бросился к окну за флагом, но его уж там не оказалось и, по произведении обыска, таковой был вытащен из-под изголовья кроватей. Пока производился обыск, кто, стоя, кто, сидя, а кто и полулежа на открытой кровати, – продолжали петь революционные песни, игнорируя тем самым присутствие тюремной администрации.
Начальство пригрозило карцером. Мы заявили, что это нас не смущает, и отказались, как было условлено, от пищи. От начальства последовало распоряжение закрыть наглухо парашку (неполное карцерное положение). К дверям приставили конвойного, то же происходило и в других камерах.
Из одной камеры (кажется, двадцатой, куда потом перевели нас) всех заключенных перевели в нижний этаж, отняли одеяла, матрацы, подушки и простыни (полное уже карцерное положение, но не карцер).
Так продолжалось до следующего утра, когда, вызвав дежурного помощника, а затем и начальника, вся тюрьма потребовала перевода, снятия карцерного положения с двадцатой камеры и вызова тюремного инспектора.
Не желая себе создать дурную славу, Петрушка сдался, и жизнь в тюрьме стала протекать в нормальном порядке.
Это продолжалось недолго, двадцатая камера была раскассирована, так как с каждом днем заключенных переводили в другие прибалтийские тюрьмы, для допроса и следствия, камеры пустели, начальство, концентрируя всех в один этаж, перевело часть нас, руенцев, в двадцатую камеру.