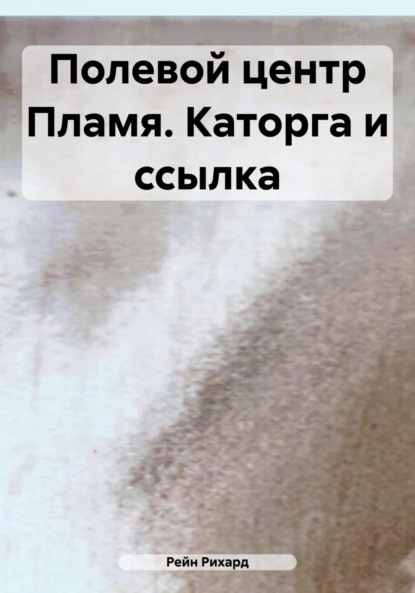По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На одной из станций с нашими девицами произошёл следующий инцидент. Меня окончательно заели вши, и, узнав у чалдона, что у него истоплена баня, я попросил его пустить нас помыться, что он с удовольствием, как гостеприимный хозяин разрешил; помывшись, я выстирал там всё своё бельё и вернулся из бани лишь в верхней одежде, оставив бельё там сушиться. За нами пошли мыться наши девицы и, узнав у хозяйки, что я пошёл в избу совершенно без белья, тут же обсудили, как быть. Самая молодая из них предложила, так как её рубашки короткие, хотя и без рукавов, то, пожалуй, подошли бы. Сначала было решили эту находку провести в жизнь, но потом посчитали, что это неудобно, да и ни одна и не попыталась брать на себя такую смелость – предложить.
За вечерним чаем наши девицы всё переглядывались, хихикали и то лукаво улыбались, то краснели, когда, наконец, одна не выдержала и сказала:
– Товарищ Рейн, вот Вера наша хочет предложить вам свою рубашку, да постеснялась.
Все захохотали, а Вера смутилась и выбежала из избы на улицу, мы за ней, а она от нас по улице, насилу поймали и притащили, совсем смущённую и сердитую, обратно и чуть-чуть из-за этого после бани не простудились.
Дальнейший путь прошёл без особых приключений, чем дальше, тем нас стало меньше, отстали «шпионы», «шпионки», отстали и наши девицы, отстали и остальные товарищи, и уж в Знаменку мы поехали лишь пятеро – двое политических и трое уголовных.
В Знаменку мы прибыли восемнадцатого ноября 1917 года, пройдя и проехав триста восемьдесят вёрст от Иркутска и вообще от железнодорожных путей сообщения.
Прибыв в волостное управление, подводы въехали во двор и тут же моментально все мои спутники, как уголовные, так и политические, рассыпались врассыпную. Предполагая, что они зашли в волостное управление, я тоже направился туда и обратился к первому попавшемуся делопроизводителю с вопросом:
– Какое будет дальнейшее распоряжение?
Он удивлённо посмотрел на меня и ответил:
– Идите себе на четыре стороны.
Такой ответ меня крайне удивил, ибо каждый из сотрудников волостного управления прекрасно знал, что нас не сопровождали денежные суммы, что квартиры мы не имеем и, следовательно, ночевать на улице не представляется никакой возможности. Единственно, на что я надеялся, это то, что по имеющимся у меня сведениям в селе Знаменка проживает один из моих сопроцессников, товарищ Цирюля. Выйдя из волостного управления, я зашёл в кооперацию, где, предполагал, этого Цирюлю должны знать, ибо мне было известно, что в сибирских кооперативах служит большинство бывших политзаключённых. Спросив, не знают ли они, имеется ли такой товарищ, я получил ответ и указание, где такой товарищ проживает. Направившись на боковую улицу, на которую мне указали, и, спросив нескольких встречных, наконец я добрался до дома, в котором должен проживать товарищ Цирюля.
Войдя и поздоровавшись с хозяйкой, которую я по акценту разговора узнал, как мою землячку-латышку, я осведомился – проживает ли здесь мой товарищ, и, получив утвердительный ответ, объяснил, кто я и откуда. Сейчас же хозяйка дома, которая оказалась женой товарища Цирюли, попросила меня раздеться и в первую голову предложила мне бельё и верхнюю одежду своего мужа, предложила совершенно снять всё находящееся на мне, ибо она тоже, как видно, прошла этот этап, в котором каждого из нас поедали вши. После переодевания всё это сложили в кучу и, завязав в простыню, вынесли для безопасности во двор на снег. Товарища моего дома не было, ибо он уехал в лес за дровами.
Осведомившись о житье-бытье, я понял, что надеяться на какую-нибудь работу в данном селе не приходится, а если какая-нибудь работа перепадёт, то это лишь у чалдона, которая оплачивается недостаточно, пища в чалдонской семье не из важных, и таким образом приходится жить или тем, что заниматься рубкой леса, как многие другие заключённые, и весной продавать его тем же чалдонам, или жить на присылаемые от родных и знакомых деньги.
Этот вопрос меня не пугал, не пугал по той простой причине, что я, отправляясь из Шлиссельбургской крепости в Сибирь, имел договорённость с начальником тюрьмы о том, что остающиеся там мои так называемые неприкасаемые деньги будут переведены не вдогонку со мной, а по телеграфному извещению о моём местонахождении. Это обстоятельство, которое я придумал ещё в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, дало мне полную гарантию и возможность прожить несколько месяцев совершенно беззаботно и поправиться, ибо я имел там сто двадцать девять рублей тридцать копеек, проживание, как выяснилось впоследствии, при самых худших условиях в селе Знаменка в месяц обходилось от двадцати пяти до тридцати рублей.
К вечеру вернулся мой товарищ и сопроцессник. Из разговора с ним выяснилось, что он уже в селе Знаменка успел обзавестись своим хозяйством: арендовав за четыре рубля в месяц целый дом у чалдона-хозяина, с четырьмя комнатами, с передней и кухней, он устроился великолепно, кроме того, имел две лошади и корову и сдавал одну комнату политическому заключённому. Правда, он уже находился в селе Знаменке около четырёх лет, но тем не менее такое обзаведение хозяйством меня убедило. На мои вопросы и расспросы он ответил, что иначе бы здесь умер с голоду.
Однако впоследствии, в тот же вечер, когда вернулись другие политические заключённые, которые у него находились на квартире и столовались, я выяснил, что мой сопроцессник превратился в настоящего живодёра-спекулянта, что, арендовав у чалдона дом за четыре рубля в месяц, в то же самое время он с каждого проживающего в одной комнате, а их было трое, брал по два рубля и, кроме того, брал за харчи больше в два раза, чем это обошлось бы тогда, когда каждый из них ел бы самостоятельно, однако не желая завестись новыми семьями, а также не имея возможности использовать местных чалдонов для варки пищи, как не привыкшие к чалдонской еде, товарищи принуждены были переплачивать моему бывшему сопроцесснику. И вот от этих переплат постепенно он обрастал и превращался в деревенского кулачка, заготавливая сам и скупая у других бывших политзаключённых заготовленные ими в лесу дрова, привозя их на своих лошадях, продавал и на этом наживал себе деньги. Всё это печально, печально тем более, что он участвовал в нашем процессе и что его жена тоже являлась политзаключённой, однако увещевать и агитировать его было бы бессмысленно.
Переговорив с остальными товарищами и узнав, что перейти на другую квартиру, столоваться у чалдона тоже не совсем выгодно, я решил тут же, что остаюсь здесь. Сходив предварительно на почту, сдав телеграмму начальнику Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, чтобы оставшиеся деньги были переведены мне, назавтра был принуждён договориться с бывшим моим сопроцессником, что он берёт меня на своё иждивение, что отпускает, до получения мною денег, всё в долг, покупает всё необходимое: бельё, одежду, прочее. На всё это он, конечно, зная меня, согласился, но он и тут видел свои барыши и прибыли. Правда, я попытался обсудить с ним на эту тему, но он отговаривался обыкновенной фразой:
– Каждый борется за своё существование.
После этого у нас всякие товарищеские отношения прекратились и я стал проживать на таких же условиях и правах, как и трое остальных у него, платили как постороннему хозяину-эксплуататору всё то, что с нас требовали, и брали всё то у него, без чего мы не могли обойтись.
Так как делать было нечего, то с первого дня я, взяв у товарища ружьё, отправился на охоту. Однако в охоте я был разочарован. Ещё до поездки в Сибирь, из разговоров с товарищами и чтения книг, вообще Сибирь и в частности Иркутская губерния мне представлялась изобилующей зверьём и дичью. Однако каково же было моё удивление, когда в первый день, поднявшись до десяти вёрст в горы и пройдя туда и обратно более двадцати вёрст, я по всей дороге, и то на далёком расстоянии, увидел лишь пять рябчиков. В последующие дни, отправляясь втроём на такое же расстояние, тоже увидели пять рябчиков и, направляясь в разные стороны, чтобы погнать их на одного или другого, сумели убить лишь одного, так что в результате после нескольких походов на охоту, отправляясь иногда вместе с Цирюлём в лес за дровами, пришлось мысль об охоте бросить и если когда-либо ещё собирался на охоту, то лишь потому, чтобы сделать прогулку для аппетита, забирая с собой хлеб.
Нужно сказать, что с первых же дней у меня появился ужасный аппетит к мучной пище – клёцки и блины для меня представляли наилучшее питание. Но так как в меню моего хозяина и хозяйки это было предусмотрено очень редко и считалось как дорогое кушанье, то приходилось сверх установленной платы специально заказывать на наш же счёт эти блины и клёцки. Правда, я стал понемногу поправляться, но всё же чувствовал себя очень неважно. Примерно числа двадцать пятого, двадцать шестого февраля я уже получил переведённые мне деньги, а двадцать седьмого февраля мы имели первую телеграмму, что Николай Второй, кровавый, отрёкся от престола и на его место вступает Михаил.
Всем как-то сначала не верилось этому отречению, но к вечеру в нашу хату набралось много политических и начались горячие споры и дебаты. Громадное большинство присутствующих это отречение называли революцией. Я же с пеной у рта отстаивал, что рабочий класс и крестьянство ничего не выиграют, будет ли Николай кровавый или Михаил кровавый. Споры до того разгорелись, и люди до того озлобленно спорили, что уже за двенадцать часов ночи всё ещё никто не расходился и к нам втискивались новые и новые люди из бывших политзаключённых.
После двенадцати часов ночи свой телеграфист, прибежав с только что полученной телеграммой, сообщил дополнительные новости, что получены сведения, как будто и Михаил отрёкся от престола, что как будто власть переходит к наследнику и прочее. Дальше была приписка, что возможен переход власти в руки Государственной думы. Все сведения были очень туманны, очень неясны, непонятны и опять вызывали новые и новые споры. Люди видели в переходе власти в руки наследника, в руки, наконец, Государственной думы уже социальную революцию. Однако я и некоторые другие товарищи, которые меня поддерживали, доказывали, что это не так.
Не помню, когда были получены точные и ясные телеграммы о том, что с окраин Петрограда жёны солдат с детьми на руках, разгромив магазины, с лозунгами «Хлеб!» и «Свобода!» направляются к центру города, разнося по дороге распределительные лавки. Получив эту телеграмму, я тут же воскликнул:
– Вот! Это начало настоящей революции!
Затем уже была пришла другая телеграмма, что властями выставлены на всех улицах, ведущих к центру города, кадры верных правительству войск, которые не должны были пропустить этих детей и жён, что эти кадры «верных» войск во многих случаях уже отказались исполнять приказы своих начальников – офицеров и что имеются случаи, когда, вместо того, чтобы стрелять в жён рабочих и детей, убивали своих же начальников. Но были и другие сведения, что стреляли по жёнам рабочих.
Тут всякий понял и осознал, что наступило время борьбы. Уже двинулся первый этап с более отдалённых мест для того, чтобы отправиться к центру России участвовать в этой борьбе. Первый этап застал меня и ряд других товарищей в довольно безвыходном положении: мы по состоянию здоровья не могли двигаться в такой далёкий путь – опять триста восемьдесят вёрст до Иркутска, чтобы не застрять в дороге. Из имеющихся одежды, обуви и денег решили, что должны помочь более здоровым.
Второй этап, который прошёл несколько дней спустя, поставил в нашем селе вопрос, что пора организовать власть и здесь. Наконец собравшись, решили, что все оставшиеся, хоть более слабые, должны немедленно обезоружить полицию и приступить к организации власти. Приступив к разоружению – должен сказать, что в Знаменке это произошло довольно смешно, – остатки политических, выйдя с красным знаменем на улицу, с лозунгами «Долой царское правительство», «Да здравствует рабоче-крестьянское правительство» направились к волостному исполкому, по дороге присоединялись женщины и дети, присоединялись крестьяне. Около кооперации нас встретил местный отряд полиции, состоящий из пристава, четырёх-пяти стражников, вооружённых с головы до ног. Эта кучка ещё в своих мозгах мыслила остановить революционное движение, остановить хотя бы в селе Знаменка. Не успели они опомниться, как были схвачены, обезоружены и направлены в каталажку, где несколько дней назад томились политические заключённые.
Собрав всех жителей села, сейчас же перед крестьянами поставили вопрос о необходимости немедленно организовать волостное земуправление, создать исполнительный комитет. После долгих обсуждений этот исполнительный комитет был создан из состава большинства крестьян и части политзаключённых, который со следующего дня приступил к работе. Вскрыв архив пристава и роясь в нём, мы находили много всевозможных предписаний, распоряжений по тому или иному бывшему политзаключённому. В частности, в предписании, которое было отдано обо мне, село Знаменка не было назначено моим постоянным местожительством, а я должен был быть отправлен ещё на несколько вёрст дальше в деревню, из которой не скоро выберешься. Несмотря, что здесь работы было по горло и что мы уже стали получать точные информации о положении дела, о борьбе петроградского пролетариата и борьбе в других городах, каждый из нас стремился вернуться к себе на родину. Однако быстрая весна и уже иссякающие средства, поделенные между «отъехавшими» и оставшимися, не позволяли выехать. Ни один из чалдонов-крестьян, видя потоки весенних вод с гор, не брался нас вести. Таким образом, приходилось ждать, пока осушатся дороги, приходилось думать о том, что необходимо будет каким-либо способом заработать деньги на обратный путь. Из моих ста двадцати девяти рублей за короткий срок у меня осталось рублей десять-пятнадцать, а добраться до Иркутска – значило иметь не меньше, чем сорок, на подводы, плюс на пропитание. Таким образом, чтобы добраться до Иркутска, надо было или ждать денег, пока пришлёт иркутский комитет, или найти работу. Так как каждую весну в селе Жигалове, в двадцати пяти верстах от Знаменки, на реке Лене производилась погрузка товаров для золотопромышленных районов Бодайбо, то мы немедленно же, набрав соответствующую партию желающих во что бы то ни стало ехать, направились туда.
Однако здесь счастье нам не улыбнулось, потому что предприниматели ещё ждали возвращения старой власти, желая эксплуатировать грузчиков, держали старые цены на погрузку тысячи пудов. Собравшись, несколько сот политических и уголовных провели общий митинг, на котором было решено предъявить определённые требования и ни на какие уступки не идти впредь до исполнения этих требований. Всякую попытку сорвать эти требования было решено рассматривать как штрейкбрехерство и виновных к погрузке не допускать. Не помню точно, сколько мы проканителились с этим погрузочным вопросом, но не меньше недели, пока наконец, с помощью вмешательства Иркутского совета в это дело не приступили к погрузке. Потрудившись три с половиной дня и заработав восемьдесят с чем-то рублей, я и ещё шесть товарищей решили, что мы дальше не работаем, что этой суммы нам хватит на обратную дорогу, и уже договорились вернуться обратно в Знаменку, чтобы направиться в Иркутск, когда нам сообщили, что каждый из нас имеет получить от представительства Иркутского совета или исполнительного комитета, точно не помню, ещё по сорок рублей на дорогу.
Обрадовавшись такой неожиданности, сейчас же, в этот день, направились в село Знаменка. В Знаменке выяснилось, что до Иркутска тележным путём не добраться раньше пятнадцати суток, даже если ехать, не останавливаясь и не отдыхая по дороге. Так как таким путём было немыслимо ехать, то, следовательно, надо было подумать о более близком пути. Не помню, к какому городу мы направились, но помню лишь одно, что мы двинулись к реке Ангаре для того, чтобы там на пароходе отплыть в Иркутск. Этот путь, нами выбранный, оказался наиболее благоприятным, ибо на Ангаре в ожидании парохода мы простояли лишь одни сутки и, по любезности капитана корабля, были приняты на борт с представлением пятидесятипроцентной скидки на проезд. Не буду описывать всё это путешествие, ибо сейчас мне не припомнится, как каждый из нас был преисполнен радости и надежд, что скоро вернёмся в Иркутск, оттуда в Питер, что в первых числах июня уже будем в Питере, оттуда разъедемся по своим местам, приступим к кипучей, горячей работе.
В Иркутске на вокзалах висели большие плакаты, куда обращаться политическим заключённым. Оказалось, что в Иркутске существовал, не знаю чей, благотворительный комитет, где политических снабжали бельём, обувью и одеждой, предоставляли вагон для отправки в путь на Москву и другие центры. Нужно сказать, что видно было, что в этом благотворительном комитете находились люди не из рабочего класса, люди, которые решили и на обуви, одежде и кормлении возвращающихся бывших политических заключённых зарабатывать, и поэтому не только скудно давалось то, что каждому нужно было, но давалось такого качества, что иногда стыдно было принять.
Однако, не задерживаясь в Иркутске, каждый из нас стремился скорее дождаться, когда до него дойдёт очередь садиться на поезд. Также не помню числа, но дело дошло и до моей очереди, и партия бывших политзаключённых, размещённая в двух вагонах второго класса, под руководством своих же выбранных старост, выехала по направлению к России. По дороге на разных станциях нас встречали рабочие делегации, встречали делегации крестьян, устраивались обеды, устраивались торжественные собрания, выступления, митинги, нас приглашали, отцепляя на некоторое время вагоны, посетить город, выступить на рабочих собраниях. Там, где отцепки долго нас не задерживали, мы снимались, отправлялись на фабрики и заводы, на те или иные собрания, произносили горячие речи, затем снова возвращались в свои вагоны и направлялись дальше. В Челябинске благодаря такой отцепке и прицепке к своему поезду мы не попали в аварию, так как идущий впереди нас поезд, несмотря на то, что семафор был закрыт, пошёл напролом, и первые два вагона от паровоза, на месте которых должны были быть наши вагоны, сошли с пути, разбились вдребезги; люди, которые находились там, были наполовину искалеченными, полуживыми извлечены из остатков вагонов, из-под откосов. Наш поезд, не дойдя, остановился на середине дороги, и мы все пошли туда оказывать возможную помощь пострадавшим.
Путешествие через Урал и дальше не отличалось от путешествия первых дней – те же встречи, те же выступления и прочее. Единственно, что должен отметить, это то, что местами наш поезд шёл настолько медленно, что мы могли свободно выходить из вагонов, свободно идти рядом с поездом, а иногда забежать в лес и на луг, сорвать цветов.
Между прочим, случился ещё один интересный факт, который произошёл с тремя эмигрантами, едущими с нами, которые вернулись из Америки, где пребывали в эмиграции, которым, ввиду переполненности наших двух вагонов в Иркутске, было предоставлено место в ближайшем с нами вагоне. Все они в Америке запаслись прекраснейшими чемоданами, наполненными всевозможными материалами и ценностями. Женщина, которая ехала с ними, очень невнимательно следила за тем, чтобы, выходя из вагона, закрывать купе, да и не особенно внимательно к этому делу относились её спутники, и уже до Челябинска она была обокрадена, что называется, до последней нитки. В Челябинске нам удалось, так как несколько товарищей от нас уже ушли, взять их в свои вагоны. Всю дорогу, до самого Петрограда, её спутники шутили и посмеивались над ней, что она растеряла всё приобретённое в Америке. Однако один из них – фамилии не помню, эстонец по национальности – производил на меня, грубо выражаясь, впечатление такого же растяпы, какой оказалась наша спутница.
По прибытии в Петроград нас встретили на вокзале и тут же разбили на группы, на грузовых и легковых автомобилях распределили по общежитиям. Я попал в общежитие на Каменноостровском. Зарегистрировав в этих общежитиях, опять же направили в какой-то благотворительный комитет, где нам выдали суточные и отпускали то, что некоторым не хватало и в Иркутске они не получали. Я задержался в Петербурге около месяца, так как должен был ехать в своё местечко – Руен, а оно находилось в прифронтовой полосе, и для того, чтобы выехать туда, требовалось от Керенских властей соответствующее оформление документов через штабы и прочее, необходимо было сняться, послать заявление в фронтовой штаб и получить оттуда разрешение на выезд. Пока что знакомился с Питером и его порядками. Не говоря о тех мелочах, которые происходили с нами из-за отсутствия хлеба, иногда сахара и прочих продуктов общежития, не говоря о тех экскурсиях, которые мы совершали по дворцам и достопримечательностям, а также посещая кино и театры, Народный дом и прочее, я должен сказать, что главное время уходило на постоянные митинги.
Питер в то время представлял из себя сплошной митинг.
Стоило двум заспорить на любом бульваре, на любой улице, в любом сквере между собой, излагать противоположные взгляды, как минут через пять-десять уже вокруг них собиралась толпа в пятьдесят-шестьдесят человек, слушала их, вмешивалась в разговор и задавала вопросы, уставшие ораторы заменялись новыми. Стоило только кому-либо в этих летучих митингах из представителей большевиков устать или оказаться слабее его противника – эсера, меньшевика или кадета, как уже этого большевика сзади за фалды одёргивал его товарищ, уговаривая разрешить ему говорить вместо него, когда же оказывалась противная сторона побеждённой, её заменял другой. Всё это взбудораживало, всё это придавало новых сил и энергии, всё это заставляло вертеть мозги в определённом направлении, что борьба ещё не окончена, что хотя и пролетариатом власть вырвана у царя, она всё же оказалась в руках буржуазии и что буржуазию начали усиленно поддерживать все партии, за исключением партии большевиков. Таким образом каждый из нас осознал, что борьба ещё впереди, что, победив царскую власть, пролетариат оказался ни при чём.
Особенно знаменателен был день 18-го июня, то есть тот день, когда пролетариат Петрограда демонстрировал свой протест против Хлестакова – Керенского. С восьми часов утра уже сплошная колонна переполнила все улицы Петрограда, направляясь к Марсову полю, демонстрация сплошной колонной двигалась беспрерывно до самой поздней ночи. Произносились на остановках и перекрёстках речи, речи горячие, призывающие к дальнейшей борьбе. На Невском и ряде других мест произведено провокационное выступление для того, чтобы сорвать демонстрацию для того, чтобы устроить панику. Однако петроградский пролетариат двигался твёрдыми шагами, рука об руку, не поддаваясь этой панике п продолжая свой живой протест против Временного правительства.
Ещё замечательный был день 19-го июля, день, когда приспешники и блюдолизы Временного правительства в противовес демонстрации 18-го июня демонстрировали свои силы. Как жалки и смешны были их ряды со всеми их инвалидными колоннами и колоннами женских батальонов – знамён оказалось больше, чем участников демонстрации. Так же жалки, как жалка эта демонстрация, были выступления их, когда в противовес им выдвинулись большевики. Лучше каждому с каждым словом, с каждой минутой, с каждым часом чувствовалось, что пролетариат осознал, что он выпустил власть из своих рук, что он должен бороться, чтобы вырвать эту власть у буржуазии и её приспешников.
Дни проходили за днями в этом бесконечном митинговании. Здесь характерно отметить такое явление: стоило появиться большевикам на каком-либо устроенном на Невском проспекте митинге, как его тут же стаскивали с трибуны, избивали и отправляли в участок для выяснения личности. Но за это было и наоборот, когда в рабочем районе появлялся кадет или эсер, который пытался доказать необходимость продолжения войны до победоносного конца, признания Временного правительства, ареста вождей большевиков как германских шпионов-предателей и прочие вещи, этим выступлениям давали отпор и с трибуны также стаскивались представители этих лжесоциалистов, лжезащитников интересов рабочего класса и крестьянства.
Примерно к середине или в последних числах июня я получил свои документы с разрешением на выезд на родину и тут же отправился немедленно на поезд.
Дома меня уже ждали, ждали как давно невиданного гостя и товарища, который поможет наладить всё не налаживающееся дело, ждали для того, чтобы иметь как от более старшего товарища новые указания, как дальше повести работу. Я же ехал туда, будучи недостаточно уверен в том, что смогу там быть в передовых рядах, по той простой причине, что мне всё казалось, что я отстал от жизни, просидев эти долгие годы на каторге. По приезду оказалось наоборот, что мы, сидя в каторге и обсуждая все вопросы, хотя и не всегда получая правильную, точную информацию, всё же выросли гораздо больше, чем многие из работающих в подполье наших товарищей.
Прибыв к себе, первым делом я разыскал квартиру своей престарелой уже матери, которая от радости не знала, что делать, и тут же, в этот же день, несмотря на всю усталость, смог принять ряд делегаций и иметь с ними суждение. Побеседовал, выразив свои соображения о дальнейшей работе, я всё же предполагал, что так как организация не в состоянии оплачивать моё существование и так как я не имею никаких средств, поступить на работу там же в типографии, где я учился ещё до каторги, поступить не только наборщиком, но исполнять, если это потребуется, переплётную работу, которой я научился в шлиссельбургской каторге, и попутно заниматься общественным делом. Так я и сделал. Не отдохнув ни одного дня, тут же приступил к работе и каждый день участвовал в тех или других собраниях и заседаниях. С первых же шагов видно было, что здесь идёт различная борьба между эсерами, меньшевиками с одной стороны и большевиками с другой, и, что меня больше всего удивило, так это то, что организация – организация подпольная, которая работала в подполье до 1905 года, которая насчитывала до ста пятидесяти человек, в настоящее время стала меньше; меня удивило и то обстоятельство, что некоторые из моих же сопроцессников, которые уже успели прибыть сюда, не находились в партии, не подавали заявления о том, чтобы их снова зачислили, оформили их вступление и так далее.
Недели через полторы мне было предложено в нашем комитете партии быть начальником милиции в нашей местности, не знаю, по какому приказу Керенского, в это время начальники милиции не назначались, а выбирались на общих собраниях граждан, на которых участвовала не только пролетарская партия, но и партия крестьянского союза, то есть лавочников, серых баронов (кулаков) и прочих элементов. Выставили мою кандидатуру, с противоположной стороны объединённого списка эсеров и союза земельных собственников была выставлена другая кандидатура известного богача, тамошнего серого барона.
Перед самыми выборами, которые должны были провести тайным голосованием, на собрании предполагалось выступления ораторов с той и другой стороны. Каково же было моё удивление, когда наш районный партийный комитет предложил мне, в случае если будет задан вопрос – большевик ли я, ленинец или нет, этот вопрос смазать. Я от этого дела отказался и решил, что нужно идти прямым путём, не пускаясь ни на какие ухищрения. Спросил их предварительно, чем они мотивируют такую не прямолинейность, на что они мне ответили, что при заявлении, что я большевик-ленинец, моя кандидатура может быть провалена и на пост начальника милиции в этом районе будет избран представитель серых баронов. Не зная ещё всех новых ребят, которые вступили за моё отсутствие в партию, не зная также настроения рабочих кустарей и служащих, которые должны были участвовать на этом выборном собрании, я всё же решил идти прямым путём, о чём и заявил.
В назначенный день собрание было на открытом воздухе около здания Торнейского волисполкома советов. Ораторы говорили горячие речи, каждый доказывал, что необходимо быть честным, добросовестным, отражающим интересы того или другого класса представителем. Причём представитель объединённого блока меньшевиков, эсеров и серых баронов стремился доказать, что необходимо выставить кандидата более нейтрального, отражающего общие интересы. Наконец дело дошло до вопроса, чтобы выступили сами кандидаты, и чтобы каждый назвал, каких взглядов он придерживается, причём со стороны противоположного блока было предложено мне стать на трибуну и сказать – большевик ли я, ленинец или нет. На это я ответил, что пусть говорит их кандидат, пусть скажет, кто он и что он, и я не постесняюсь сказать, кто я. Выступивший представитель, со слащавой улыбкой обращаясь не к делегатам товарищам, а к господам, выставил себя как всем известного, работающего на общественном поприще в земельном обществе «Крестьянин», пытался доказать всячески, что единственная подходящая кандидатура – это его.
Моё появление на трибуне было встречено не особенно большими аплодисментами, и тут же я поспешил ответить на заданный мне вопрос – большевик ли я, ленинец или кто другой. Я ответил, что я большевик-ленинец и что всякий, кому памятен 1905 год, памятна борьба рабочего класса и крестьян за освобождение от ига капитала, тот должен знать, где были серые бароны в это время, как вели себя меньшевики и эсеры, продавая тогда наше революционное движение и уже в начале декабря отступая от занятых ими предварительных позиций. Я указывал на противников – крикунов, которые тут же пытались мешать мне своими выкриками, называя их по фамилии, назвал, кто они такие, кто лавочник, кто серый барон и прочие и как они эксплуатировали своих же подчинённых. Минута за минутой овладевал аудиторией, постепенно выкрики и прочее, мешающие говорить, смолкали, и под конец моей речи осталась незначительная кучка самых ярых монархистов, которые, идя в блоке с меньшевиками, пытались всё же отстоять свою кандидатуру. Однако при тайном голосовании подсчёт голосов уже к вечеру показал, что с каждой минутой вынутые и вскрытые записки за того или иного кандидата говорили всё больше и больше в мою пользу, и в результате окончательного подсчёта в комиссии, куда были введены представители всех партий и групп, оказалось, что я получил 4/5 всех поданных голосов.
Таким образом я приступил к исполнению своих обязанностей начальника милиции; через несколько дней был введён в состав исполкома совета и закипела работа.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: