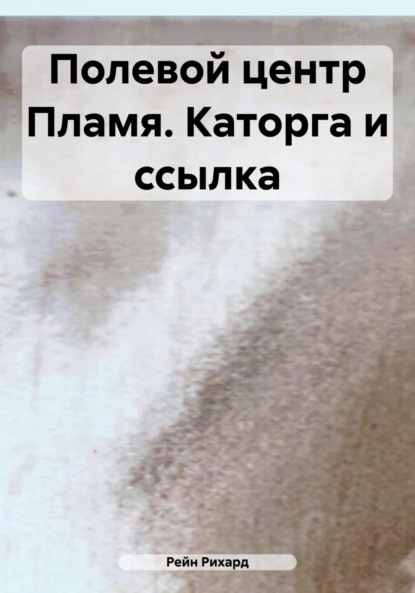По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С нетерпеньем ждали обеда, остатки оказались, и за девять-одиннадцать дней пути впервые имели возможность похлебать хотя неважную, но всё же горячую пищу. После обеда занялись борьбой с паразитами, и так до вечера, до вечерней проверки.
На проверке заявили дежурному помощнику начальника, что нас заели паразиты, требовали мыло и бани, а также спросили, зачем мы здесь, в рабочем корпусе. Дежурный с насмешкой ответил, что в баню попадём, когда придёт очередь, что там и мыло дадут, а что касается рабочего корпуса, так, мол, даром казённый хлеб не едят. Повернулся и ушёл.
Хотя нас и не обрадовали ничем, да и паразиты покою не давали, казалось, как будто они из тела вырастают, но после долгого путешествия мы с наслаждением проспали до утра на нарах.
После утренней проверки нам выдали хлеб и кипяток, а затем через час явилось четыре надзирателя, отперли решётчатую дверь и сказали:
– Выходи на работу.
На наш ответ, что мы кончили срок и ни на какую работу не пойдём, стали кричать и угрожать. Глядя, что угрозы не помогают, трое из них вошли в камеру, а четвёртый с дежурным по отделению надзирателем остались у дверей. Нас пробовали тащить силой, но, видя, что этого мы не позволяем, причём мы пригрозили руками нас не трогать, они отстали, отошли и велели коридорному надзирателю вызвать дежурного старшего. Последний не заставил себя ждать. Доложив, в чём дело, пришедшие за нами со словами «Прикажете выставить?» ждали распоряжений.
Выстроив нас в ряд и поглумившись над нами, старший приказал:
– Выставить.
Сейчас, начиная с краю, трое из надзирателей брали нас по очереди, двое за руки сбоку, а третий, схватив за шиворот и брюки, стали нас «выставлять». Какое-либо сопротивление здесь было немыслимо, а устные протесты, каждому из читателей понятно, ни к чему не привели. Выставив всех семнадцать человек на коридор, с нас стали снимать верхнюю, выданную в Петроградской пересыльной тюрьме новую казённую одежду и обувь, оставив так довольно продолжительное время в рубашках и кальсонах, голыми ногами на полу, после чего принесли нам рвань одежду и такую же рвань обувь и впустили обратно в камеру. Обед выдали, а на вечерней проверке дежурный помощник начальника тюрьмы заявил:
– Не хотите идти работать?
И получив единодушный ответ, что не пойдём, заявил:
– Ну что ж, мы вас здесь и помаринуем.
Так продолжалось восемь суток. Ежедневно после проверки нам выдавали хлеб, соль и кипяток, потом приходило четыре-пять надзирателей, нас «выставляли» на коридор, выдерживали там, а потом запирали камеры и тому подобное.
Положение стало невыносимо тяжёлым не потому, что нас «выставляли» и «выстаивали» не потому, что нас не пускали на прогулку не потому, что нас не отправляли к месту назначения, несмотря на окончание срока, но потому, что нам не давали баню и нас заедали вши. Трудно и невероятно будет представить читателю, что вши нас заели до того, что всё тело у каждого из нас казалось покрытым мелкой сыпью и чесалось, однако это была не сыпь, не чесотка, а самое безобразное заедание вшей.
Моральное состояние? Да этого не опишешь. Оно было в тысячу раз хуже, нежели тогда, когда нас пороли бы розгами. Никаким требованиям дать врача, никаким требованиям явиться начальнику, никаким требованиям дать бумаги для заявлений не вняли. Кроме того, к нам посадили с первого же дня, кажется, трёх уголовных, наверное, чтобы знать, о чём мы толкуем, какие наши планы. Правда, они у нас не пробыли и суток – мы предложили им убраться, а когда они дерзко заявили, что не пойдут, мы им намяли бока и предупредили, что это цветочки, а ягодки будут впереди. Пробовали грозить карцером, но что значит карцер, когда и так морально мы были убиты, однако уголовных убрали.
После восьмого зашвыривания мы, обсудив создавшееся положение, решили на девятые сутки отправить одного «разведчика» на работы и в зависимости от того, какая будет работа и какое питание, решить вопрос – идти или нет, и на следующее утро об этом заявили дежурному. Дежурный помощник, видно, обрадовался и согласился послать его на работу, прибавив:
– Может, завтра и остальные надумают.
Со скрежетом зубов мы молча выслушали эту насмешку, но наше положение было безвыходное, единственное средство было у нас – это объявить голодовку, но объявить голодовку – значило по истечении десяти-одиннадцати лет каторги, когда воля близка, лишиться жизни, не принося этим никому пользы, не довести же голодовки до конца – значило лишить этого средства борьбы для других всякого значения. Может быть, так и следовало поступить и с первого же дня решить приступить к голодовке, однако в этом вопросе у нас не было единодушия.
Товарищ, которого выделили на работу, был взят, и мы с нетерпеньем ждали его возвращения. Вернулся он вечером. Мы обступили его и слушали его рассказ. Оказалось, что он ходил на работу на выгрузку товаров из вагонов на станции Иркутск-товарная, что идти туда восемь вёрст, что работают артелями по пять-шесть человек при одном надзирателе, что когда нет работы – не поданы вагоны для выгрузки, отдыхают в рядом расположенном бараке, что обед хороший, хлеба на обед и супу дают много и что мяса хватает, единственно, что плохо, это идти с уголовными, что они вместе с надзирателем воруют товары, вечером на обратном пути по дешёвке продают лавочникам и делятся с надзирателями.
Взвесив все «за» и «против», решили, что идём работать, наутро заявив об этом – начальство обрадовалось достигнутой «победе». Мы стали ходить на работу, и тут в одном из перерывов, находясь в бараке, узнав, что в этой же ограде поблизости имеется аптека, я ускользнул из барака, не считаясь с последствиями, направился туда, чтобы, если и надо, протянуть руку как за милостыней, может быть, у своего врага попросить для нас всех зелёное мыло. В аптеке я встретил молодую женщину и заявил, что я политический каторжанин и что над нами, семнадцатью человеками, издеваются, что нас заедают вши и мы просим, умоляем дать нам это мыло, причём добавил, что денег у нас нет. Женщина подошла ко мне, внимательно посмотрев в глаза, как бы спрашивая, не вру ли я, велела расстегнуть рубашку и, внимательно осмотрев грудь, шею и руки, со словами «Сейчас» повернулась и вышла в соседнюю комнату, откуда через несколько минут появилась с рыжим, выше среднего роста мужчиной. Тот, ещё раз оглядев меня и отвечая на какие-то доводы женщине, заявил:
– Да нет никакой сыпи, это действительно его заела стая вшей. Разузнав, кто я, по какому делу судился и прочее, и узнав, что я по «Руенскому» делу, поинтересовался о соучастниках, заявил, что он фельдшер, тоже бывший политзаключённый, высланный, вот в настоящее время работает здесь и что его фамилия Старк. Я припомнил такую фамилию по заключению в Пскове или Риге, и мы разговорились о нашем тяжёлом положении, причём он указал, что в Иркутске имеется наш Красный Крест и что он сегодня обо всём доложит, и что будут приняты все меры по ускорению нашей отправки и «устройства» нам передачи (продуктов), и тут же дал мне две изрядные порции зелёного мыла. Увлёкшись разговором как я, так и он, мы забыли, что в случае выхода всех из барака на выгрузку по счёту начнутся поиски, перекличка и я попаду в лучшем под порку, а в худшем будут судить за попытку к побегу и сиди тогда ещё годов четыре-шесть. Вспомнив об этом, я устремился в барак. В бараке, кроме повара – старика уголовного, никого уже не было, и последний мне посоветовал стремглав броситься к вагонам, под ними добраться до цейхгаузов, а там, мол, и сам увидишь, что я и сделал. Запыхавшись, добрался до своей артели, и тут мои товарищи сообщили, что моё отсутствие обнаружено, идёт уже перекличка по всем артелям, чтобы установить, кто именно пропал. Выгрузка была приостановлена, и заключённые стояли в распломбированных с товарами вагонах, ожидая переклички. До нашей артели очередь не дошла, а так как по утрам надзиратели набирали артели и расписывались не по фамилиям взятых, а по количеству, то каждый из них был бы рад иметь перебежчика из другой артели, лишь бы количественно цифра его сошлась. Наш надзиратель, видно, нервничал, он знал, что у него количественно не хватает одного, знал и то, что и он пойдёт под суд за это, и как будто ждал, что я не убежал и убежать было некуда, ибо товарная станция была окружена высоким забором и, кроме того, имея военное время, охранялась не только в проходе, но и вдоль забора. Как я пролез в вагон, он не заметил. Немного отдохнув, я стал подавать признаки, что я тут и что у нас все в сборе, и почему мы не приступаем к выгрузке. По лицу надзирателя прошла и радость, и злоба, и, поманив рукой к себе, он шёпотом спросил:
– Где ты был, мерзавец? – И добавил: – Если бы меня не выгнали за то, что ты пропал, то я бы заявил, что это ты, которого искали, ищут и из-за которого идёт перекличка, и с тебя девять шкур содрали бы.
Подошла очередь и до переклички нашей артели, и уже до переклички надзиратель крикнул небрежно навстречу старшему:
– У меня все, господин старший.
Когда перекличка кончилась, все удивились, как это так получилось, что то одного не хватало, то оказалось – все. Об этом судили и рядили и в обеденный перерыв, и заключённые, и надзиратели между собой решили, что выпускающий у дверей надзиратель «обчёлся». Пока все спорили, я подошёл к старику-повару и попросил его молчать, ибо только он и все наши ребята знали, в чём дело.
Почему не сразу было обнаружено моё отсутствие, спросит читатель. Вот почему. На выгрузку из барака выходили не все сразу, вследствие чего считающий у дверей по счёту выпущенных заключённых мог только сказать, что одного не хватает, тогда, когда уже вышла последняя артель, а последние три артели были мы – политические, так как уголовных выпускали в первую очередь, ибо от них и заработок был главным образом надзирателям, от наворованного, в тюрьме от заработанного, тем более, что уголовники «спешили работать», лишь бы добраться до большего количества таких вагонов, где можно было воровать: сено, овёс, рожь и прочее они не любили грузить, зато любили грузить чай, сахар, масло, мануфактуру, словом, галантерейные товары и мясо-жировую продукцию.
Вернёмся ещё на минуту к разговорам о перекличке. Когда было решено, что ошибся подсчитывающий выходящих из барака, надзиратель старший грозно обратился к нему:
– Ты у меня смотри, загною в тюрьме, если повторится. Хорошо, что я ещё не сообщил в тюрьму. А то сам бы впросак, все ромбы бы сняли, – и с облегчением прибавил: – Если не выгнали б…
Что думал и переживал наш надзиратель, трудно было угадать, но мои товарищи и тем более я были рады, что всё обошлось благополучно и что у нас есть зелёное мыло, и мы теперь получим возможность умыться, а при первой бане, которую нам уже обещали, и помыться как следует, а так как в бане дадут и чистое бельё, вернее, тряпьё, можно пропариться – значит скоро-скоро избавимся от паразитов – вшей. Мы от радости готовы были кричать, но не смели и виду показать.
Как происходили покражи уголовниками?
Вагоны вскрывали железнодорожные служащие (пакгаузники), затем начиналась выгрузка с переносом в склады, где приёмщик принимал по весу или количеству тары (ящиков, банок, бидонов и прочее), если таковая цела. Если нет, проверялось, подсчитывалось и взвешивалось, смотря какой товар. Уголовники, забравшись в вагон для начала выгрузки, стремились в первую голову к тем товарам, которые им были нужны. Если это был сахар-песок, то в мешок втыкалась трубочка, по которой сахар сам тёк в карман или мешочки, если рафинад пилёный, мешок прорывался и из каждого мешка брали немного, чтобы незаметно было. Если это были папиросы, разбивали «нечаянно» ящики, брали сколько хотели, рыбу брали лучшую, мясо – обивали всю рёберную часть и так далее, раз даже пропала двухпудовая банка с кокосовым маслом. К концу разгрузки вагона при обнаружении недостачи составляли акт о недостаче, и на этом дело кончалось.
Как доставляли всё это, я бы сказал, награбленное через ограду? Через привозящих в барак для обеда продукты или вечером прямо в ворота. Продавали потом и, как я уже сказал, деньги делили с надзирателями «по-христиански». Когда однажды мы пытались обратить внимание весовщика на это, он, отмахиваясь как бы от лукавых, заявил:
– Что вы, что вы, да разве Семён Никитич, Иван Фёдорович и прочие что-либо подобного позволят, я их сколько лет знаю, да что им, служба не дорога, что ли? – И на вопрос, откуда же эти недостачи, всегда отвечал: – А бог их знает.
Отсюда ясно, что и железнодорожные служивые участвовали в воровстве и в дележах.
Так проходили дни. В баню нас пустили. От вшей не полностью избавились и представителей Красного Креста не видали. В первых же числах февраля нам объявили, что скоро нас отправят. И действительно, стали вызывать одного за другим и отправили уже к числу четвёртого-пятого февраля, а меня перевели в другую камеру. На мой вопрос, почему меня не отправляют, последовал ответ: «Не знаем, не имеем распоряжений».
Будучи переведён в другую камеру, я попал туда, где сидели те три уголовника, которым мы намяли бока. Со злорадными возгласами «Ааа, к нам попал» встретили они меня. Из дальнейших разговоров видно было, что здесь, в иркутской тюрьме, ещё не изжито «ивановство» и что в этой камере Иваны заправляют всем. Надо было выяснить, в случае потасовки могут поддержать меня люди, случайно попавшие в уголовники и подавленные Иванами, требовать перевода в другую камеру, или же спокойно принять их издевательства. Выдержав спокойно нападки Иванов, я строго отвечал на все их выпады по адресу меня и политических вообще. Самоуверенно и внушительно заметил, что если пока им только бока намяли, то они могут остаться и без рёбер, и с разбитыми черепами. Когда они вскочили с мест и приблизились ко мне с угрозами, я взял в руки только свой, внушительного размера эмалированный чайник и, зная, что это хулиганьё храбро только тогда, когда их боятся, а трусят, когда голова находится под опаской быть разбитой, спокойно сказал:
– Не советую подходить.
Моё спокойствие их затревожило, они, покричав и пустив по моему поводу кучу угроз, отстали.
На следующий день я должен был идти с ними вместе на выгрузку, но вечером выяснилось, что жители этой камеры разбились на две группы, причём большая группа оказалась на моей стороне. Выйдя следующим утром на работу, я попал в артель, где был один из них. Мы должны были погрузить военные разобранные двуколки на платформу. Когда кончили перекладку досками и приступили к погрузке последнего ряда, «Иван», который всё время держался неподалёку, ударил меня кулаком по виску. Предвидя подобные возможные неожиданности, я успел ухватиться за боковую доску, чем скреплялось погруженное, и в силу этого не упал. Оглянувшись, я увидел, что кто-то схватил моего врага за шиворот и брюки и со всей силой сбросил его из вагона. Сейчас же по распоряжению надзирателя была приостановлена работа и началось выяснение. У сброшенного «Ивана» голова оказалось разбитой, нас всех сняли с работы и направили в тюрьму, и, выяснив ещё там все обстоятельства дела, моего спасителя направили в карцер, а «Ивана» – в околодок. Мой спаситель оказался сокамерником – уголовным, над которым, как и над всеми, эти трое «Иванов» издевались. Вечером вернулись и остальные, но уже двух других «Иванов» к нам не впустили, взяли и их вещи – оказалось, что они струсили и попросили их перевести в другую камеру.
Кажется, через день, числа седьмого или восьмого февраля 1917 года, вызвали меня в контору, объявили, что я направляюсь в Верхоленский уезд, село Знаменка, Иркутской губернии до дальнейших распоряжений.
Если не ошибаюсь, этап составился из пятидесяти-шестидесяти человек при двадцати пяти-тридцати конвойных, среди нас было восемь женщин. По команде «Шашки вон, шагом марш» тронулись в дорогу. Сколько было радости, сознавая, что тюрьма, каторга остаётся позади, что идёшь к вольной жизни, к лучшим дням. Предполагалось пройти пешком за день тридцать-тридцать пять вёрст (а там без конвоя, уже на подводах, при охране сельской и волостной (десятская и прочее)). По дороге выяснилось, что среди мужчин имеется всего четыре политических и такое же число среди женщин, затем изрядное количество мужчин, административно высланных за подозрение в шпионаже, причём последние прекрасно одеты и снабжены всякими «съедобным», бельём и прочим, среди оставшихся женщин две «шпионки», причём одна из них молодая и довольно миловидная. Так же по выходе за пределы города Иркутска правило идти в ряды не соблюдалось, и можно было как попало, лишь бы идти, это позволяло, хотя бы поверхностно, познакомиться со всем этапом. Конвой ходил с боков. Впереди и сзади. А за ним тянулись подводы со съестным и вещами. Многие уже на восьмой-десятой версте стали уставать, просили подводы, но конвой тут не был так щедр и допускал сесть того или другого на подводу только тогда, когда видел, что действительно он больше не был в состоянии ходить. На пятнадцатой-семнадцатой версте сделали привал и нам выдали по фунту белого хлеба и куску колбасы, кое у кого были и свои продукты, в том числе у меня, так как я получил деньги, заработанные на погрузке.
Поели. Отдохнули, тронулись дальше и к вечеру прибыли в так называемую «каталажку» (тоже что-то вроде тюрьмы, обнесённой высоким частоколом из брёвен, но с той разницей, что запираются лишь ворота), более благонадёжных пускали здесь и на вольные квартиры.
По дороге выяснилось, что уголовники собираются ночью кое-кого обобрать да поиздеваться над женщинами, так как всех помещают в одном помещении по разным комнатам, при открытых дверях, причём внутри никакой стражи не имеется. Для лёгкости своих проделок они занимают все нары – кому не хватает места, те должны были спать на полу или под нарами, им мешают спать до изнурения, а там уже они господа положения. Посоветовавшись между собой, решили: если не удастся добиться наших женщин отправить на вольные квартиры, то нужно будет занять ряд мест на нарах, а чтобы их захватить, придётся перехитрить уголовных, держаться самостоятельно и настойчиво, не избегая никакой защиты, лишь бы получить положение, при котором уголовники не посмели бы нас трогать. Как только нас пустили в каталажку, я вбежал вместе с другими в комнаты, кинув через головы находящихся впереди меня уголовных, устремившихся к нарам, свою котомку в угол нар и крикнул:
– Восемь мест.
Кругом раздался хохот и возгласы:
– Ай да парень, перехитрил.
Поясняю: у уголовных, по традиции, существовал такой обычай, если при этапе в этапное помещение он, не добравшись сам до нар, кинул туда свою шапку или вообще вещь и при этом назвал количество мест, то уже никто другой эти места не занимает. Я об этом знал и неожиданно для них их же «обычаем» их перехитрил. Устроившись в ряд, мы решили, что, прежде чем думать об еде и кипятке, я иду на «разведку» по поводу размещения женщин вне каталажки, чего мне и удалось добиться у надзирателя. Денег у нас у всех было понемногу, у меня, в частности, в фотографии матери кабинетного порядка, а у других – у кого где, где деньги береглись при наихудших условиях во всей дороге на последний этап и первые дни пропитания.
Ночь, при небольших скандалах, прошла сравнительно благополучно, и к утру оказались обокраденными только два «шпиона» и двое уголовных сбежало. Часть уголовников, как выяснилось утром, ещё вечером оставлены в этом же селе. Подали подводы, и мы тронулись в путь несмотря на то, что всё ещё нас заедали вши, почёсываясь, ехали весело, был сильный мороз. На следующей остановке опять часть уголовников была оставлена, а нам с бою удалось в каталажку не идти и разместиться в крестьянской хате.
Нужно сказать, что сибирский крестьянин-чалдон любит чистоту в своей хате и любит свет, поэтому если его хата не будет раз-два в месяц побелена или, если стены бревенчатые, не вытерты изнутри водой и песком, то его уже считают грязнулей, причём всё это делает женщина, сам он не особенно любит по хозяйству ходить. На этой остановке к нам напросились в спутники «шпионки», на что мы им и не отказывали, но, к сожалению, молодая их вечером за чаем и закокетничала со мной, а одна из наших партиек заревновала, и вышел небольшой инцидент, хотя потом всё удалось уладить.
На следующий день мы продолжали свой путь и на каждой остановке всё снова и снова оставляли позади себя тех, кто был намечен в ту или иную деревню. Уголовники обнаглели до того, что не только обобрали всех «шпионов», но стали отбирать друг у друга последние полушубки. К себе мы их не подпускали и обошлись без потерь.