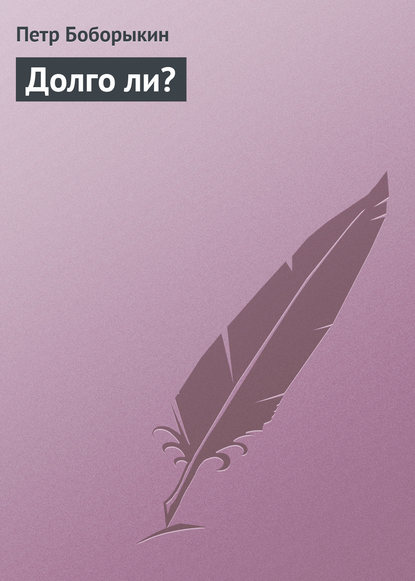По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Долго ли?
Год написания книги
1875
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ему отперли тотчас же: он не дожидался и двух минут. Вместо Татьяны – со свечой в руке стояла на пороге Анна Каранатовна. Лицо у ней было не сонное, а скорее жесткое, с неподвижными глазами. Луке Ивановичу не приводилось видеть у ней такого выражения. Он тотчас отвел от нее взгляд, да и вообще ему не особенно понравилось то, что Анна Каранатовна могла засвидетельствовать его очень позднее возвращение.
– Ты еще не ложилась? – мимоходом выговорил он, снимая шубку и боты.
– Нет еще, – коротко и с дрожью ответила она.
– Покойной ночи, – кинул он еще небрежнее, проходя в свою комнату. Немало удивился Лука Иванович, когда услыхал за собою шаги Анны Каранатовны: она шла за ним же.
– У меня есть спички, не трудитесь, – не оборачиваясь, выговорил Лука Иванович.
Но Анна Каранатовна точно не слышала, что он сказал; вошла в комнату, поставила на стол свечу и тотчас же довольно тяжело опустилась на стул.
Тут Лука Иванович пристальнее вгляделся в нее: губы ее оттопырились, глаза покраснели, грудь колыхалась.
Он притих и ждал…
– Пустите меня, – резко воскликнула она и даже сложила руки просительным жестом. – Пустите, – продолжала она слезливо и нервно, – что вам во мне?..
Слова туго выходили у ней из горла, спертого спазмом.
Лука Иванович подошел к ней поближе и пугливо-удивленными глазами оглядел ее всю.
– Ты у меня просишься?.. – тихо спросил он, наклоняясь над ней.
– И никогда-то я вам мила не была, – заговорила Анна Каранатовна, как бы с трудом припоминая слова, – а теперь вон у вас душенька завелась…
– Что такое?! – точно ужаленный, перебил Лука Иванович.
– Нешто я знаю?!.. Барыня у вас какая-то… сегодня мне сказывали, за вами приезжала, дворника присылала… Не станет же по ночам ездить с человеком так, зря… да еще сама править, и лошади свои…
"Неужели и она ревнует?" – подумал Лука Иванович, еще не понимая, куда все это ведет.
– Мне что! – все слезливее и покорнее говорила Анна Каранатовна. – Я вам не жена, я и в душеньках ваших никогда не бывала. Вы… нешто меня любили когда?.. Жалость ко мне имели, да и не ко мне, а к девчонке моей, вот к кому… Ну, и стали со мной жить… больше из-за нее, я так понимаю… А теперь вон у вас есть барыня… лошадей своих имеет… К чему же мне срам принимать? зачем я вам? Обуза одна, квартиру надо хозяйскую, расходы, а вы перебиваетесь… и самому-то легко ли прокормиться…
– Полно, полно! – начал было Лука Иванович.
– Батюшка, Лука Иванович, отпустите меня Христа ради! мне этакая жизнь опостылела!..
Она рухнулась на колена, зарыдала и схватила его за руки. Лука Иванович совсем оторопел и опустился на кресло, поддерживая ее за плечи.
– Аннушка, что ты?.. разве я тебя силой держу?.. К чему ты так?..
– Пустите, пустите! – повторяла она, всхлипывая и пряча голову в его коленах.
"Еще этого недоставало, – с горечью подумал он, – неужели в ней заговорила страсть?"
– Ну, успокойся же, – вымолвил он мягко и степенно, – говори мне все, что у тебя на сердце легло: я недаром – твой приятель.
Голова Анны Каранатовны тяжело приподнялась. Слезы все еще текли, но рыдания уже смолкли. Она оставалась на коленах.
– Что мне вам рассказывать? вы видите сами, Лука Иваныч. Лгать я вам не хочу: я ведь не из ревности; с вами я так жила, потому что человек вы добрый, а больше ничего у меня не было. Теперь степенный человек меня любит, жениться на мне хочет… слово я скажи. Вам я в тягость… к чему же мне один срам на себя брать, скажите на милость? Я и прошу вас Христом Богом…
– Понимаю тебя, – остановил ее Лука Иванович, – ты хочешь сказать, что между нами настоящей любви нет. Что ж, это правда!.. За кого же замуж сбираешься?
– Мартыныч и спит, и видит…
– Ты ему веришь?..
– Я его насквозь вижу.
Анна Каранатовна уже настолько успокоилась, что села на стул и сложила руки на груди.
– А будет чем жить?
Вопрос Луки Ивановича заставил ее оживленно воскликнуть:
– Еще бы! Он – основательный человек. Я за ним, как у Христа за пазухой буду!
Лука Иванович задумался. Ему крепко жаль стало Настеньку. Анна Каранатовна тотчас же догадалась, почему он смолк и опустил голову.
– Вы не сумневайтесь насчет Настеньки. Тошно вам с ней прощаться… Так ведь я вам запретить не могу, Лука Иваныч: вы ей – второй отец; отпускать к вам буду, и насчет учения, как вы скажете… Ведь она не ваша… Вы только из жалости к ней привыкли. А Иван Мартыныч ей заместо родного отца будет, клянусь вам Богом. Вы позвольте, он вам обо всем доложит…
– К чему это! – поморщился Лука Иванович.
– Нет уж позвольте, не обижайте человека. Он меня желает совсем успокоить, на всю жизнь… Кто нынче на законный брак пойдет, Лука Иваныч? И посулить-то никто не посулит, сами знаете.
– Ну, хорошо, – с усилием выговорил Лука Иванович, – завтра мы еще поговорим.
– Да вы, Христа ради! – с новыми слезами вскричала Анна Каранатовна.
– Ты свободна, Аннушка, – внушительно возразил он, – хоть завтра прощайся со мной. Я на тебя не сержусь. Я рад за тебя, верь мне. И дочь ты вольна брать… Только теперь успокойся… Знаешь: утро вечера мудренее.
Он заботливо поднял ее со стула и гладил по голове.
– Теперь спать пора, – с улыбкой добавил он, – четвертый час.
– Не обидьте меня, Лука Иваныч! – чуть слышно вымолвила Анна Каранатовна, схватила вдруг его свободную руку и поцеловала.
– Что ты, что ты!.. – вырвалось у него тронутым звуком.
Сдерживая свое волнение, проводил он ее до коридора. Забылся он только на рассвете.
XXIII
«Вот как это все случилось!» Таково было первое восклицание Луки Ивановича, когда он раскрыл глаза.
И он должен был сознаться, что так будет лучше. Настеньки он не мог же отнимать у матери, а оставить при себе… где было ручательство, что он обеспечит ей и добрый уход, и довольство? Ему хотелось верить перемене своего положения. – Сбудутся его мечты, прочно усядется он на каком-нибудь крупном заработке – тем лучше!.. Всегда будет у него возможность дать средства на солидное образование Настеньки. Да полно, хорошо ли еще превращать ее в барышню, хотя бы и «педагогичку», хотя бы и с испанским языком?..
Очень успокоился Лука Иванович к часу утреннего кофе. Он почти весело отправился в комнату Анны Каранатовны. Первый взгляд, брошенный на нее, показал ему, что она чувствует. И ее лицо, и прическа, и платье, надетое с утра для выхода, – все говорило, что она находится в возбужденно-выжидательном, как бы торжественном состоянии.
– Ты еще не ложилась? – мимоходом выговорил он, снимая шубку и боты.
– Нет еще, – коротко и с дрожью ответила она.
– Покойной ночи, – кинул он еще небрежнее, проходя в свою комнату. Немало удивился Лука Иванович, когда услыхал за собою шаги Анны Каранатовны: она шла за ним же.
– У меня есть спички, не трудитесь, – не оборачиваясь, выговорил Лука Иванович.
Но Анна Каранатовна точно не слышала, что он сказал; вошла в комнату, поставила на стол свечу и тотчас же довольно тяжело опустилась на стул.
Тут Лука Иванович пристальнее вгляделся в нее: губы ее оттопырились, глаза покраснели, грудь колыхалась.
Он притих и ждал…
– Пустите меня, – резко воскликнула она и даже сложила руки просительным жестом. – Пустите, – продолжала она слезливо и нервно, – что вам во мне?..
Слова туго выходили у ней из горла, спертого спазмом.
Лука Иванович подошел к ней поближе и пугливо-удивленными глазами оглядел ее всю.
– Ты у меня просишься?.. – тихо спросил он, наклоняясь над ней.
– И никогда-то я вам мила не была, – заговорила Анна Каранатовна, как бы с трудом припоминая слова, – а теперь вон у вас душенька завелась…
– Что такое?! – точно ужаленный, перебил Лука Иванович.
– Нешто я знаю?!.. Барыня у вас какая-то… сегодня мне сказывали, за вами приезжала, дворника присылала… Не станет же по ночам ездить с человеком так, зря… да еще сама править, и лошади свои…
"Неужели и она ревнует?" – подумал Лука Иванович, еще не понимая, куда все это ведет.
– Мне что! – все слезливее и покорнее говорила Анна Каранатовна. – Я вам не жена, я и в душеньках ваших никогда не бывала. Вы… нешто меня любили когда?.. Жалость ко мне имели, да и не ко мне, а к девчонке моей, вот к кому… Ну, и стали со мной жить… больше из-за нее, я так понимаю… А теперь вон у вас есть барыня… лошадей своих имеет… К чему же мне срам принимать? зачем я вам? Обуза одна, квартиру надо хозяйскую, расходы, а вы перебиваетесь… и самому-то легко ли прокормиться…
– Полно, полно! – начал было Лука Иванович.
– Батюшка, Лука Иванович, отпустите меня Христа ради! мне этакая жизнь опостылела!..
Она рухнулась на колена, зарыдала и схватила его за руки. Лука Иванович совсем оторопел и опустился на кресло, поддерживая ее за плечи.
– Аннушка, что ты?.. разве я тебя силой держу?.. К чему ты так?..
– Пустите, пустите! – повторяла она, всхлипывая и пряча голову в его коленах.
"Еще этого недоставало, – с горечью подумал он, – неужели в ней заговорила страсть?"
– Ну, успокойся же, – вымолвил он мягко и степенно, – говори мне все, что у тебя на сердце легло: я недаром – твой приятель.
Голова Анны Каранатовны тяжело приподнялась. Слезы все еще текли, но рыдания уже смолкли. Она оставалась на коленах.
– Что мне вам рассказывать? вы видите сами, Лука Иваныч. Лгать я вам не хочу: я ведь не из ревности; с вами я так жила, потому что человек вы добрый, а больше ничего у меня не было. Теперь степенный человек меня любит, жениться на мне хочет… слово я скажи. Вам я в тягость… к чему же мне один срам на себя брать, скажите на милость? Я и прошу вас Христом Богом…
– Понимаю тебя, – остановил ее Лука Иванович, – ты хочешь сказать, что между нами настоящей любви нет. Что ж, это правда!.. За кого же замуж сбираешься?
– Мартыныч и спит, и видит…
– Ты ему веришь?..
– Я его насквозь вижу.
Анна Каранатовна уже настолько успокоилась, что села на стул и сложила руки на груди.
– А будет чем жить?
Вопрос Луки Ивановича заставил ее оживленно воскликнуть:
– Еще бы! Он – основательный человек. Я за ним, как у Христа за пазухой буду!
Лука Иванович задумался. Ему крепко жаль стало Настеньку. Анна Каранатовна тотчас же догадалась, почему он смолк и опустил голову.
– Вы не сумневайтесь насчет Настеньки. Тошно вам с ней прощаться… Так ведь я вам запретить не могу, Лука Иваныч: вы ей – второй отец; отпускать к вам буду, и насчет учения, как вы скажете… Ведь она не ваша… Вы только из жалости к ней привыкли. А Иван Мартыныч ей заместо родного отца будет, клянусь вам Богом. Вы позвольте, он вам обо всем доложит…
– К чему это! – поморщился Лука Иванович.
– Нет уж позвольте, не обижайте человека. Он меня желает совсем успокоить, на всю жизнь… Кто нынче на законный брак пойдет, Лука Иваныч? И посулить-то никто не посулит, сами знаете.
– Ну, хорошо, – с усилием выговорил Лука Иванович, – завтра мы еще поговорим.
– Да вы, Христа ради! – с новыми слезами вскричала Анна Каранатовна.
– Ты свободна, Аннушка, – внушительно возразил он, – хоть завтра прощайся со мной. Я на тебя не сержусь. Я рад за тебя, верь мне. И дочь ты вольна брать… Только теперь успокойся… Знаешь: утро вечера мудренее.
Он заботливо поднял ее со стула и гладил по голове.
– Теперь спать пора, – с улыбкой добавил он, – четвертый час.
– Не обидьте меня, Лука Иваныч! – чуть слышно вымолвила Анна Каранатовна, схватила вдруг его свободную руку и поцеловала.
– Что ты, что ты!.. – вырвалось у него тронутым звуком.
Сдерживая свое волнение, проводил он ее до коридора. Забылся он только на рассвете.
XXIII
«Вот как это все случилось!» Таково было первое восклицание Луки Ивановича, когда он раскрыл глаза.
И он должен был сознаться, что так будет лучше. Настеньки он не мог же отнимать у матери, а оставить при себе… где было ручательство, что он обеспечит ей и добрый уход, и довольство? Ему хотелось верить перемене своего положения. – Сбудутся его мечты, прочно усядется он на каком-нибудь крупном заработке – тем лучше!.. Всегда будет у него возможность дать средства на солидное образование Настеньки. Да полно, хорошо ли еще превращать ее в барышню, хотя бы и «педагогичку», хотя бы и с испанским языком?..
Очень успокоился Лука Иванович к часу утреннего кофе. Он почти весело отправился в комнату Анны Каранатовны. Первый взгляд, брошенный на нее, показал ему, что она чувствует. И ее лицо, и прическа, и платье, надетое с утра для выхода, – все говорило, что она находится в возбужденно-выжидательном, как бы торжественном состоянии.