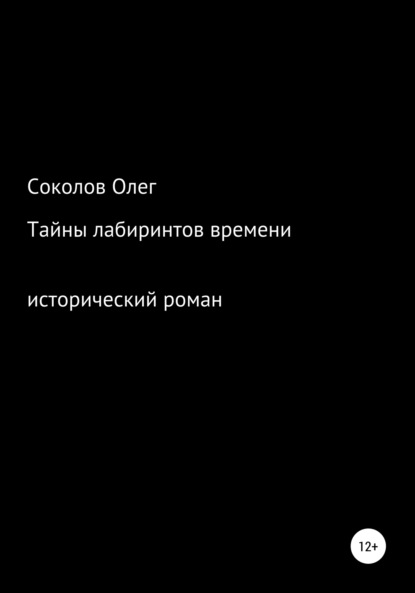По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайны лабиринтов времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ночью казаки ловят галеры хана на приманку, они разводят огромные костры, которые горят на турецкой или татарской земле. Судно султана идет на такой костер, как на маяк, а казаки, пользуясь этим, грабят его и топят.
Итак, по причине дурных портов, казацких чаек, ложных маяков – это море весьма справедливо называется Черным.
Черное море у татар почитается за главное море, потому что является как бы отцом, т. е. источником и снабдителем вод для всех прочих морей. В Черное море впадают великие реки Европы: Данубий и Нипро, а само Черное море через канал длинною в восемнадцать миль вливается в архипелаг, а затем и в океан, который является суть морских запасов земли.
Порт Тана – на картах казаков отмечен как Азов, он пока подвластен падишаху. Однако путешествие в Тану весьма затруднительно: кроме мелей и узкого прохода, галеры падишаха беспокоят казачьи чайки. Казаки, побеждая, османов подвергают разграблению и рабству воинов султана, а христианам, находящимся на галерах падишаха, предоставляют выбор: службу у них или выкуп, если те находятся на службе у падишаха, а не в неволе.
В 1621 году ногайцы попытались завладеть Бахчисараем. Турки открыли огонь из пушек и остановили ногайцев. Началась осада города. На двадцать восьмой день осады пришли казаки и разбили ногайцев. Турки же с радостью, думая, что пришла подмога, вышли встречать вызволителей. Закончилось все тем, что казаки водрузили знамя Христа на дворец хана.
Ногайцы три дня собирали армию в порту Кафы. Воины прибывали и прибывали к великому ужасу местных жителей. Казаки, узнав об этом, тотчас прибыли в город и рассеяли ногайцев по ветру. Город был освобожден и лишился десятка тысяч рабов, которые пополнили ряды казаков.
За последние десять лет татары, по приказанию хана, ходили разорять Московию, за это казаки не раз грабили хана и его города, предупреждая его, что они защищают Московию.
В 1634 году поляки и ханские воины вторглись в Московию в количестве пятидесяти тысяч воинов. Хан угнал двадцать тысяч рабов, тридцать тысяч реалов золотом, золотые украшения и посуда пошли в казну хана. А в 1635 году казаки, пройдя лесом четыре мили, появились на рассвете, к самому открытию ворот города Манкопа, где хан хранил самые драгоценные вещи и свою казну. Казаки захватили его казну и почти разрушили город. Это был не первый и, как сказали казаки, не последний захват казны хана. Казаки на обратном пути разрушили и ограбили ханский город Акриман, так как был он первым препятствием для казаков на их пути.
Черноморские казаки ходят в море на плавучих караульнях. Эти кочевые пикеты называются у них байдаками – платами, имеющими весла и руль. По бортам они прикрываются шерстяными щитами с отверстиями для ружей. На каждой такой караульне помещается до тридцати воинов с кухней и припасами. Такие караульни являются прикрытием кордона на море от галер хана.
Казаки имеют летучую морскую пехоту, она передвигается по суше до двенадцати верст в час, и с ходу может вступить в бой. Казаки высаживают со своих чаек такую пехоту на землю хана, а когда воины хана узнают об этом, казаки – уже в другом конце Крыма напали и разграбили какой-нибудь город».
– Я это письмо сам читал и не раз, потому песней отзывается оно в моей душе. Ну, что, записал ни-то, бурсак сказку мою? А я вот думаю, Онопко – пора мне заканчивать казакувать и до свого куреня подаваться. Жинка ждет, все очи проглядела, ожидаючи.
– Тю! Так ты женат? А дэж твий хутор, шось я нэ чув ранише о нем?
– Тут недалече, двести верст не будет от нашей станицы, ну, може, трохы дальше. Курень мой жинка назвала Яворским – от Винницкой станицы, в сторону Дикого Поля – верст двадцать будет. Женился я не по собственной воле, давно это было, но истосковалось сердце мое по родимым местам, да по жене своей ненаглядной.
Я уж год, как отслужил у запорожцев, а все неженатым ходил. Эта мне девка не так, а та – не этак. Раз мой отец здорово осерчал и говорит:
– Явор, или зараз женишься, или я тебя вовсе не женю. В ответ я тока плечами пожал. Мать, у печки расстроенная стоит, опять махотку разбила. Руки – то уже не те стали, ухват не держат.
– Иль не вишь, – говорит отец, – старые мы уже с матерью, в доме помощница нужна. Мать запоном утирается. Дюже ты тинегубый. А мне на старости с внучком побаловаться хочется.
Вздохнул я тяжело. Нету у меня к девкам интересу. Сказать бы, что больной, какой иль калека, так руки-ноги целы, глянешь – молодец молодцом.
Для меня родительское слово было крепкое. Как батяня сказал, так оно и будет: не даст благословения, если с этим делом еще тянуть буду. Пошел я на посиделки. То на одну девку посмотрю, то на другую. Все они одинаковые, и в каждой свой изъян есть. Не расцветает у меня душа, на них глядючи, не замирает сладко сердце. День хожу на посиделки, другой – никакого толку. Ни одну девку себе не присмотрел. Помаялся я еще один день. Наконец, не выдержал родительских укоров, оседлал коня, да поехал суженую искать. А это тогда считалось делом пропащим, если в своей станице девку не облюбовал, в другой – не каждому отдадут.
Вот, значит, еду от станицы к станице, да все без толку, ни одна мне девица не глянулась. Вижу как-то, посреди дороги девка стоит: замухоренная нечеса, лохмотами тока-тока срамоту свою прикрыла. Про таких в народе говорят: такая красава, что в окно глянет – конь прянет, во двор выйдет – три дня собаки лают.
– Возьми, – говорит, – меня с собой.
– А кто ты така есть, чтобы я тебя с собой брал? – спрашиваю ее. А та отвечает. Да так уверенно говорит:
– Я суженая твоя.
Дрогнуло сердце у меня от таких слов, но виду не подал. Рассмеялся:
– Больно прыткая. Ко мне девки клонились – не тебе чета, и то – ни одна не глянулась.
– Поэтому тебе до сих пор никто не глянулся, – говорит девка, – что я твоя суженая, а ты – мой единственный.
«Вот заялдычила, – думаю, – твердокаменная какая». И спрашиваю:
– Почему ты знаешь, что я твой единственный?
– А ты ко мне каждую ночь во сне приходишь.
Повеселел я.
– Ну, я-то крепко сплю. Сны мне не видятся -, а сам думаю: «Не приведи, господи, чтобы такая приснилась».
– Возьми меня, – говорит грязнуха, – не пожалеешь.
– Еще чо! – возмутился я. – Не возьму и не проси. Уйди лучше с дороги.
Молчит девка, но с дороги не уходит. Глянул на нее еще раз: уж дюже неприглядная. Запротивелось у меня в душе, забрезгало.
– Не балуй, – говорю, – уйди!
И хотел я ее объехать. Да никак! Не идет конь, встал как вкопанный. Я его в шенкеля да плеточкой – не идет. Что за наваждение? Подрастерялся я, в пот кинуло. И говорю:
– Мне все одно с тобой не по пути.– Повернул коня и пустил в галоп, да в обратну сторону. Сколько проскакал, не ведаю, только устал и перешел на рысь, в досаде весь, что все обернулось не по-людски. Что за случай такой вышел?
Вижу, церковные купола виднеются: знать, станица недалече. «Доеду, – думаю, – до станицы, в церкву схожу. И попрошу Господа дать мне встренуть свою суженую». Доехал, солнышко блескучее, погода играет.
Подъехал к храму, с коня слез, на себе порядок навел. Захожу, а народу никого, полумрак в церкви, свечи еле-еле горят. Тихо. Спокойно стало на душе у меня. Упал я на колени перед иконами, долго молился, вдруг слышу за спиной шепоток, оглянулся, а нету никого. А голос-то вроде бы знакомый будет. Никак опять она – та самая замараха – страсть вошла в меня, заиграла в душе злость.
Вышел из храма – сам не свой, а на улице ветер поднялся и пылью меня обдал, солнце тучей заслонилось и зябко стало, нехорошо. Вскочил я на коня и поехал прочь от станицы. Мысли тревожные, одна горше другой. Долго так ехал, очнулся – так вроде и смеркаться начало, надоть где-то на постой останавливаться. Вижу, копешка сена стоит – чем не ночлег? Зарылся в сено, веки смежил, но не идет сон, а тут луна вышла полная и льет белым светом на всю округу, не дает покоя. Вдруг слышу, сено зашелестело чой-то. Може, конь? Потом чья-то рука по лицу меня – лап, раз да другой. Занемел я, ни рукой двинуть, ни слово вымолвить. И голос: «Суженый мой…».
– Ведьмака! Изыйди, Христа ради, – отвечаю.
Схватил я шашку и махнул сгоряча – застонала дева, заохала, закричала-запричитала. Зацепил ее, видать, я шашечкой-то. Слетел с копешки, колотит меня, холодным потом обдает. Призвал коня, а в сторону копешки не оглядываюсь, боязно. На коня – и в бега!
Остальную дорогу мчал наугад, долго кружил по перелескам да по займищам, пока сердце свое успокоил. Ишь, какая ведь повадлива девица оказалась!
Вижу, вроде костерок на поляне горит и люди об чем-то гутарят. Подъехал потихоньку, прислушался и понял – разбойники добычу дуванят. Двое себе злато-серебро поделили, а молодому девица досталась. Молодой разбойник возмущается – зачем ему такая девица, иль в воровстве он не первым был. И до драки дело доходит, вот-вот сцепятся.
– Ну, коль она тебе не нужна, то мне – в самый раз, – прошептал я.
Вынул я пистоль и стрелил вверх, саблю достал, да крикнул-гукнул, свиснул и рубанул, что есть силы первого попавшегося выродка. Разбойники наутек и кинулися. А я девицу подхватил на коня – и айда прочь от этого места. Едем, значит, девица припала ко мне, сердечко бьется часто, как у воробья. Разнежился я, а тут обняла она меня покрепче за талию, вроде, как боится упасть с коня. А я и думаю: «Вот она, суженая моя». Слышу, она мне шепчет:
– Говорила я тебе, что твоя суженая.
Ба! Да это ж та самая девка-грязнуха. Да что ж за напасть такая, Господи! Ссадил я ее с коня, словно мешок сбросил:
– Доняла ты меня измором!
И опять в бега кинулся. Долго ли – коротко ли, а времечко прошло – вернулся я домой насупоренный, злой. Не нашел, кого искал. Мать меня встретила, посмотрела, и головой покачала, что тут говорить – единственное дитятко и так понять можно.
Вижу, девица по двору ходит. Спрашиваю у матери: