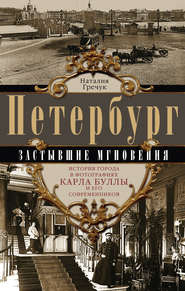По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А петербургский мещанин М.И. Наумов, занятием которого являлось устройство парового паромного перевоза на Неве, написал городскому голове, что в сооружении нового моста вообще нет надобности, так как он готов обеспечить переправу в этом месте своими паромами…
Серьезнее подошли к делу специалисты. Инженер Струве подал сразу два готовых проекта – один со сметой в 6 200 000 рублей, другой в 5 600 000. Примерно в такую же сумму определило строительство Троицкого моста по своему проекту «Французское строительное общество в Батиньоле». Фирма «Батиньоль» в результате и получила контракт на строительство.
Мост заложили в 1897 году и по договору он должен быть готов в 1901-м, но и в 1902-м работы были еще в разгаре.
Снимок, вероятно, и сделан осенью 1902 года. Доживает свой век один Троицкий мост – понтонный. Достраивается ему на смену другой – металлический…
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – его открытие удачно приурочили как подарок к торжествам 200-летия Петербурга…
Сколько воды утекло…
Не узнать его невозможно. Вот только кое-какие детали на снимке кажутся непривычными: старинный пароходик, идущий в невские верховья, «неполный», на сегодняшний взгляд, пейзаж за мостом… Но ведь делалась фотография, когда Охтинский мост – мост императора Петра Великого – только-только открылся.
Сколько воды в Неве утекло с той поры, когда охтинцы впервые заговорили о мосте, который связал бы их с городом!
…Мост между Калашниковской набережной и Малой Охтой «был назначен» еще Николаем I при утверждении им 13 марта 1829 года плана Петербурга. Но от планов к делам дорога всегда была длинной.
В августе 1863 года «Северная пчела» сообщает о том, что купец Понамарев, почетный гражданин Михайлов, ротмистр Эльман и титулярный советник Черняков учредили компанию для постройки моста через Неву на Большую Охту. Высочайше утвержденный устав компании вошел в Полное собрание законов Российской империи. Однако уже в сентябре 1868 года в том же Полном собрании законов мы находим упоминание «о несостоявшемся Обществе Охтинского через реку Большую Неву моста». И в следующем году учреждается с той же целью новая акционерная компания, которой тоже суждено вскоре умереть.
А годы идут. Охтинские обыватели по-прежнему вынуждены довольствоваться летом переправой на яликах или пароходом, зимой – на санях или пешком по льду… Впрочем, Охта в те времена даже не окраина, а «загород». Что ее заботы столице! Но растущий Петербург неминуемо должен был вобрать в себя и заречную Охту. Вопрос о ее присоединении встал в конце XIX века. Условием было названо только наличие удобной транспортной связи.
«Новое время» в одном из февральских номеров за 1897 год сообщает, что Городская дума собирается утвердить проект плашкоутного (наплавного) моста на Охту, и «ожидается спор» – на Большую или Малую. Неизвестно, кто победил в этом споре, может быть, и Военное министерство, «грузы которого с Большой Охты на полигон пойдут по кратчайшей дороге», только и на этот раз дело не двинулось… Наконец, 1 сентября 1901 года объявили международный конкурс на проект постоянного Охтинского моста.
К назначенному сроку поступило тринадцать проектов. Комиссия судей-экспертов решила, что премии не достоин никто. Впрочем, три проекта предложила Городской думе купить «как материал для дальнейшей разработки». Кстати сказать, один из этих купленных городом проектов Охтинского моста принадлежал французскому инженеру, названному только по фамилии – Эйфель. Не был ли то создатель знаменитой парижской башни? Энциклопедии, старые и новые, представляют Александра Гюстава Эйфеля прежде всего как строителя мостов и виадуков… Впрочем, комиссия рассмотрела и приобрела еще один проект, поступивший вне конкурса. Над ним работали двое – профессор Николаевской инженерной академии, военный инженер Г.Г. Кривошеин и военный инженер В.П. Апышков. Им и предложили доработать свою идею для практического воплощения…
Но и дальше события развивались небыстро.
Закладка моста состоялась лишь в 1909 году. Для этого выбрали 26 июня, день когда праздновалось 200-летие Полтавской битвы. Потому мост и получил имя Петра Великого.
Торжество же открытия, довольно скромное по тем временам, без царя, произошло 26 октября 1911 года.
Отныне Охта, Большая и Малая, могла называться хоть и окраиной, но – городской.
…Известно, что Охтинский мост, вид его, нравится не всем. Он действительно мало похож на классически красивые, нарядные невские мосты. Его критиковали – даже еще непостроенный! За «загромождение горизонта колоссальной железной сеткой». За ассиметрично устроенные, по одну сторону, башни-маяки – в «Новом времени» их сочли проявлением декадентства…
Можно было бы, конечно, упрекнуть за «не тот» стиль не так уж известного Апышкова, которому принадлежит разработка архитектурно-художественной части проекта. Но вот имя авторитетное – Л.Н. Бенуа. Именно ему, как писал журнал «Зодчий» в 1909 году, принадлежало «главное руководство по архитектурной части». Значит, увидел и понял знаменитый зодчий своеобразную красоту нового моста на Неве!
Однако главным достоинством Охтинского моста оказалась его функциональность. Девиз проекта – «Свобода судоходства» – оказался точен: разводная часть моста пришлась на самое глубокое место реки.
От Дворцового к Дворцовому
Очень знакомая картина открывается нам на снимке, но что-то в ней не так… Чего-то глазу не достает.
Не хватает привычного каждому горожанину Дворцового моста. Хотя переправа через широкую Неву видна. Тоже называвшаяся Дворцовым мостом, она была предшественницей того металлического, что достался в наследство нам с вами.
В истории ее существования есть любопытные страницы.
Начнем с того, что этот деревянный наплавной Дворцовый мост появился сначала на другом месте Невы и под другим именем: его соорудили в 1733 году ниже по течению и назвали Исаакиевским. К Стрелке же переехал он в середине XIX века, в связи с открытием первого постоянного металлического невского моста – Николаевского.
Устроен был Исаакиевский-Дворцовый мост на барках-плашкоутах, при надобности разводился, на время ледохода и ледостава вовсе убирался к берегам. Одно слово – временный, хоть и на многие десятилетия!
Да и став уже Дворцовым, мост снова, по меньшей мере дважды, менял местоположение. Один раз это случилось в 1896 году. Тогда как раз начали устраивать сад около Зимнего дворца, который по первоначальному проекту должен непосредственно примыкать к Адмиралтейству. Кроме того, писали столичные газеты, обитателей Зимнего беспокоил шум большого движения по мосту…
Обсуждались два варианта. Вернуть мост опять к Сенатской площади или лишь чуть передвинуть вниз по течению… Чтобы не ставить его «под бок» к Николаевскому, остановились на втором.
Летом и осенью шла подготовительная работа на набережных, а 26 октября 1896 года «Новое время» сообщило: «Сегодня приступлено к перестановке Дворцового моста на новое его место, против здания Адмиралтейства». Работы растянулись до Рождества, в Управу посыпались жалобы от горожан, лишившихся удобной переправы…
Все хлопоты по передвижению, впрочем, оказались пустыми: сад у Зимнего дворца занял меньше места, чем предполагалось.
Потом, разумеется, вопрос о переносе встал при начавшемся в 1912 году строительстве постоянного Дворцового моста. Вот на этот раз наплавной мост все-таки передвинули к Сенатской площади, хотя было и предложение переместить его вообще к 26-й линии Васильевского острова.
В дальнейшем собирались поставить старую переправу на службу жителям Охты. Но тут уж ничего не вышло, потому что 11 июля 1916 года деревянный Дворцовый мост сгорел дотла – от искры из трубы проходившего парохода. Отстоять его от огня не смог даже весь состав столичных пожарных частей, прибывших по вызову.
Впрочем, город чуть было не лишился древней этой переправы еще весной 1899 года, когда давно требовавшие ремонта плашкоуты дали течь и затонули. Именно после этой катастрофы и встал со всей серьезностью вопрос о необходимости строить вместо временного и деревянного мост металлический, на каменных опорах.
В 1901 году объявили конкурс на проект, после чего началось многолетнее обсуждение поступивших предложений и выбор подрядчиков на строительство. Только в 1912 году начали сооружать постоянную Дворцовую переправу по проекту А.П. Пшеницкого.
Интересно, что пока шла эта волокита, возник и был отвергнут проект гласного Думы, инженера М.П. Фабрициуса, который предложил вместо того, чтобы строить новый Дворцовый мост, проложить под Невой тоннель. И надо заметить, что не у него первого родилась подобная смелая идея. Другой инженер, Я.К. Ганнеман, еще раньше Фабрициуса предлагал тоннелем заменить Троицкий мост. Оба несколько опередили свое время…
«Вчера состоялось открытие нового Дворцового моста», – наконец-то смогли обрадовать петербуржцев столичные газеты 24 декабря 1916 года. Торжество было необычно скромным. Как писала «Петербургская газета», из приглашенных «явились процентов десять», даже городской голова П.И. Лелянов не пришел, и ленточку разрезал его заместитель Демкин. Первым же на новый мост, обогнав всех, въехал какой-то ломовой извозчик с досками…
«Имел обыкновение трещать…»
Наш город часто называют Северной Венецией – ведь весь изрезан он Невой с ее рукавами, речками и каналами. И как Венеции итальянской, без мостов ему не обойтись.
С петербургскими мостами связано немало интересных историй, а происшествие с одним из них стало примером хрестоматийным, вошедшим, кажется, во все учебники физики как иллюстрация явления резонанса.
«Был первый час дня, – писала «Петербургская газета» в пятницу 21 января 1905 года. – Через Египетский мост взад и вперед снуют пешеходы и извозчики. На Могилевской улице… показалось два взвода III-й конно-гренадерской бригады… Ехавшие впереди офицеры уже успели проехать Египетский мост и очутились на Ново-Петергофском проспекте, два взвода конных гренадеров только въезжали на мост. Вдруг что-то затрещало. На это вначале не обратили внимания, так как Египетский мост имел обыкновение „трещать и скрипеть“ постоянно, и летом и зимой…»
Но на этот раз, в четверг 20 января, под размеренный цокот лошадиных копыт мостовые цепи лопнули. «Деревянный Египетский мост с грохотом, с треском, заглушаемым людским стоном и криком, опустился в воду». Через полтора часа в полиции стало известно, что пострадал один нижний чин из гренадеров, одна дама, вытащенная из воды «с повреждением лица», десятилетняя девочка, «раненная в ногу», и одиннадцать извозчичьих лошадей.
Может, тогда же сделан и этот снимок. Стало ли это происшествие неожиданным, по крайней мере, для городских властей? Вовсе нет. По иронии судьбы как раз накануне обвала, 19 января, в заседании Городской думы выступал член Управы В.Ф. Бруевич и именно городское управление, то есть Управу и Думу, он критиковал за плохое состояние многочисленных небольших столичных мостов. «Я не могу умолчать того обстоятельства, – говорил он думцам, – что в виду дешевизны строятся они из старых барочных кокор и таких же досок, с добавлением самой малой части новых досок».
Надо отдать должное столичным журналистам. Они-то давно били тревогу по этому поводу! «Петербургская газета» еще весной 1899 года представляла список мостов, которые уже тогда «ожидали своей очереди провалиться».
В этом перечне были мосты – Храповицкий, Кашин, Матисов, Ново-Калинкин, Банный, Молвинский и другие деревянные переправы.
«Езда шагом» – такая надпись красовалась на одних мостах. «Но и ходьба шагом часто по ним очень небезопасна», – предупреждали газеты. По другим, вроде Каменноостровского, не дозволялось возить тяжелые грузы. «Однако по нему ходят конки, которые тяжелее запрещаемых 200 пудов».
На некоторые мосты ломовые извозчики не допускались вовсе. В эту категорию однажды попал Гутуевский мост, «парализовав целую фабрику», куда месяц не доставлялись грузы с таможни, бывшей на Гутуевском острове.
Однако от этих «мер безопасности» толку было мало. Деревянные мосты и мостики то и дело преподносили сюрпризы. В 1900 году, к примеру, не выдержал тяжести ломовой телеги настил переправы через речку Таракановку и провалился. А из-под Строгановского моста упала доска прямо на проходивший под ним пароходик, полный публики…
Между прочим, на злополучном Египетском мосту тоже висело предупреждение о «езде шагом». Но ведь и конные гренадеры по нему не галопом скакали! Более того, как выяснилось потом в жарких дебатах на тему «кто виноват», мост этот даже ремонтировали. Дважды: в 1904 году и один раз, не поверите, в начале января 1905-го! Правда, как писали потом, ремонт этот производился «странным манером»: поверх прогнивших досок просто наколачивались другие. Одна из столичных газет ехидно заметила, что Управа вообще устраивает «опыты экономического строительства из древесного хлама».
Результаты таких ремонтов, как видите, не заставляли себя ждать…
Старый Египетский мост не дожил до своего 80-летия лишь одного года. После катастрофы в створе нынешнего Лермонтовского проспекта (который позже составился из Ново-Петергофского проспекта, Могилевской и Большой Мастерской улиц) очень быстро, за три месяца, к середине апреля, возвели взамен временную переправу – опять деревянную.
Серьезнее подошли к делу специалисты. Инженер Струве подал сразу два готовых проекта – один со сметой в 6 200 000 рублей, другой в 5 600 000. Примерно в такую же сумму определило строительство Троицкого моста по своему проекту «Французское строительное общество в Батиньоле». Фирма «Батиньоль» в результате и получила контракт на строительство.
Мост заложили в 1897 году и по договору он должен быть готов в 1901-м, но и в 1902-м работы были еще в разгаре.
Снимок, вероятно, и сделан осенью 1902 года. Доживает свой век один Троицкий мост – понтонный. Достраивается ему на смену другой – металлический…
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – его открытие удачно приурочили как подарок к торжествам 200-летия Петербурга…
Сколько воды утекло…
Не узнать его невозможно. Вот только кое-какие детали на снимке кажутся непривычными: старинный пароходик, идущий в невские верховья, «неполный», на сегодняшний взгляд, пейзаж за мостом… Но ведь делалась фотография, когда Охтинский мост – мост императора Петра Великого – только-только открылся.
Сколько воды в Неве утекло с той поры, когда охтинцы впервые заговорили о мосте, который связал бы их с городом!
…Мост между Калашниковской набережной и Малой Охтой «был назначен» еще Николаем I при утверждении им 13 марта 1829 года плана Петербурга. Но от планов к делам дорога всегда была длинной.
В августе 1863 года «Северная пчела» сообщает о том, что купец Понамарев, почетный гражданин Михайлов, ротмистр Эльман и титулярный советник Черняков учредили компанию для постройки моста через Неву на Большую Охту. Высочайше утвержденный устав компании вошел в Полное собрание законов Российской империи. Однако уже в сентябре 1868 года в том же Полном собрании законов мы находим упоминание «о несостоявшемся Обществе Охтинского через реку Большую Неву моста». И в следующем году учреждается с той же целью новая акционерная компания, которой тоже суждено вскоре умереть.
А годы идут. Охтинские обыватели по-прежнему вынуждены довольствоваться летом переправой на яликах или пароходом, зимой – на санях или пешком по льду… Впрочем, Охта в те времена даже не окраина, а «загород». Что ее заботы столице! Но растущий Петербург неминуемо должен был вобрать в себя и заречную Охту. Вопрос о ее присоединении встал в конце XIX века. Условием было названо только наличие удобной транспортной связи.
«Новое время» в одном из февральских номеров за 1897 год сообщает, что Городская дума собирается утвердить проект плашкоутного (наплавного) моста на Охту, и «ожидается спор» – на Большую или Малую. Неизвестно, кто победил в этом споре, может быть, и Военное министерство, «грузы которого с Большой Охты на полигон пойдут по кратчайшей дороге», только и на этот раз дело не двинулось… Наконец, 1 сентября 1901 года объявили международный конкурс на проект постоянного Охтинского моста.
К назначенному сроку поступило тринадцать проектов. Комиссия судей-экспертов решила, что премии не достоин никто. Впрочем, три проекта предложила Городской думе купить «как материал для дальнейшей разработки». Кстати сказать, один из этих купленных городом проектов Охтинского моста принадлежал французскому инженеру, названному только по фамилии – Эйфель. Не был ли то создатель знаменитой парижской башни? Энциклопедии, старые и новые, представляют Александра Гюстава Эйфеля прежде всего как строителя мостов и виадуков… Впрочем, комиссия рассмотрела и приобрела еще один проект, поступивший вне конкурса. Над ним работали двое – профессор Николаевской инженерной академии, военный инженер Г.Г. Кривошеин и военный инженер В.П. Апышков. Им и предложили доработать свою идею для практического воплощения…
Но и дальше события развивались небыстро.
Закладка моста состоялась лишь в 1909 году. Для этого выбрали 26 июня, день когда праздновалось 200-летие Полтавской битвы. Потому мост и получил имя Петра Великого.
Торжество же открытия, довольно скромное по тем временам, без царя, произошло 26 октября 1911 года.
Отныне Охта, Большая и Малая, могла называться хоть и окраиной, но – городской.
…Известно, что Охтинский мост, вид его, нравится не всем. Он действительно мало похож на классически красивые, нарядные невские мосты. Его критиковали – даже еще непостроенный! За «загромождение горизонта колоссальной железной сеткой». За ассиметрично устроенные, по одну сторону, башни-маяки – в «Новом времени» их сочли проявлением декадентства…
Можно было бы, конечно, упрекнуть за «не тот» стиль не так уж известного Апышкова, которому принадлежит разработка архитектурно-художественной части проекта. Но вот имя авторитетное – Л.Н. Бенуа. Именно ему, как писал журнал «Зодчий» в 1909 году, принадлежало «главное руководство по архитектурной части». Значит, увидел и понял знаменитый зодчий своеобразную красоту нового моста на Неве!
Однако главным достоинством Охтинского моста оказалась его функциональность. Девиз проекта – «Свобода судоходства» – оказался точен: разводная часть моста пришлась на самое глубокое место реки.
От Дворцового к Дворцовому
Очень знакомая картина открывается нам на снимке, но что-то в ней не так… Чего-то глазу не достает.
Не хватает привычного каждому горожанину Дворцового моста. Хотя переправа через широкую Неву видна. Тоже называвшаяся Дворцовым мостом, она была предшественницей того металлического, что достался в наследство нам с вами.
В истории ее существования есть любопытные страницы.
Начнем с того, что этот деревянный наплавной Дворцовый мост появился сначала на другом месте Невы и под другим именем: его соорудили в 1733 году ниже по течению и назвали Исаакиевским. К Стрелке же переехал он в середине XIX века, в связи с открытием первого постоянного металлического невского моста – Николаевского.
Устроен был Исаакиевский-Дворцовый мост на барках-плашкоутах, при надобности разводился, на время ледохода и ледостава вовсе убирался к берегам. Одно слово – временный, хоть и на многие десятилетия!
Да и став уже Дворцовым, мост снова, по меньшей мере дважды, менял местоположение. Один раз это случилось в 1896 году. Тогда как раз начали устраивать сад около Зимнего дворца, который по первоначальному проекту должен непосредственно примыкать к Адмиралтейству. Кроме того, писали столичные газеты, обитателей Зимнего беспокоил шум большого движения по мосту…
Обсуждались два варианта. Вернуть мост опять к Сенатской площади или лишь чуть передвинуть вниз по течению… Чтобы не ставить его «под бок» к Николаевскому, остановились на втором.
Летом и осенью шла подготовительная работа на набережных, а 26 октября 1896 года «Новое время» сообщило: «Сегодня приступлено к перестановке Дворцового моста на новое его место, против здания Адмиралтейства». Работы растянулись до Рождества, в Управу посыпались жалобы от горожан, лишившихся удобной переправы…
Все хлопоты по передвижению, впрочем, оказались пустыми: сад у Зимнего дворца занял меньше места, чем предполагалось.
Потом, разумеется, вопрос о переносе встал при начавшемся в 1912 году строительстве постоянного Дворцового моста. Вот на этот раз наплавной мост все-таки передвинули к Сенатской площади, хотя было и предложение переместить его вообще к 26-й линии Васильевского острова.
В дальнейшем собирались поставить старую переправу на службу жителям Охты. Но тут уж ничего не вышло, потому что 11 июля 1916 года деревянный Дворцовый мост сгорел дотла – от искры из трубы проходившего парохода. Отстоять его от огня не смог даже весь состав столичных пожарных частей, прибывших по вызову.
Впрочем, город чуть было не лишился древней этой переправы еще весной 1899 года, когда давно требовавшие ремонта плашкоуты дали течь и затонули. Именно после этой катастрофы и встал со всей серьезностью вопрос о необходимости строить вместо временного и деревянного мост металлический, на каменных опорах.
В 1901 году объявили конкурс на проект, после чего началось многолетнее обсуждение поступивших предложений и выбор подрядчиков на строительство. Только в 1912 году начали сооружать постоянную Дворцовую переправу по проекту А.П. Пшеницкого.
Интересно, что пока шла эта волокита, возник и был отвергнут проект гласного Думы, инженера М.П. Фабрициуса, который предложил вместо того, чтобы строить новый Дворцовый мост, проложить под Невой тоннель. И надо заметить, что не у него первого родилась подобная смелая идея. Другой инженер, Я.К. Ганнеман, еще раньше Фабрициуса предлагал тоннелем заменить Троицкий мост. Оба несколько опередили свое время…
«Вчера состоялось открытие нового Дворцового моста», – наконец-то смогли обрадовать петербуржцев столичные газеты 24 декабря 1916 года. Торжество было необычно скромным. Как писала «Петербургская газета», из приглашенных «явились процентов десять», даже городской голова П.И. Лелянов не пришел, и ленточку разрезал его заместитель Демкин. Первым же на новый мост, обогнав всех, въехал какой-то ломовой извозчик с досками…
«Имел обыкновение трещать…»
Наш город часто называют Северной Венецией – ведь весь изрезан он Невой с ее рукавами, речками и каналами. И как Венеции итальянской, без мостов ему не обойтись.
С петербургскими мостами связано немало интересных историй, а происшествие с одним из них стало примером хрестоматийным, вошедшим, кажется, во все учебники физики как иллюстрация явления резонанса.
«Был первый час дня, – писала «Петербургская газета» в пятницу 21 января 1905 года. – Через Египетский мост взад и вперед снуют пешеходы и извозчики. На Могилевской улице… показалось два взвода III-й конно-гренадерской бригады… Ехавшие впереди офицеры уже успели проехать Египетский мост и очутились на Ново-Петергофском проспекте, два взвода конных гренадеров только въезжали на мост. Вдруг что-то затрещало. На это вначале не обратили внимания, так как Египетский мост имел обыкновение „трещать и скрипеть“ постоянно, и летом и зимой…»
Но на этот раз, в четверг 20 января, под размеренный цокот лошадиных копыт мостовые цепи лопнули. «Деревянный Египетский мост с грохотом, с треском, заглушаемым людским стоном и криком, опустился в воду». Через полтора часа в полиции стало известно, что пострадал один нижний чин из гренадеров, одна дама, вытащенная из воды «с повреждением лица», десятилетняя девочка, «раненная в ногу», и одиннадцать извозчичьих лошадей.
Может, тогда же сделан и этот снимок. Стало ли это происшествие неожиданным, по крайней мере, для городских властей? Вовсе нет. По иронии судьбы как раз накануне обвала, 19 января, в заседании Городской думы выступал член Управы В.Ф. Бруевич и именно городское управление, то есть Управу и Думу, он критиковал за плохое состояние многочисленных небольших столичных мостов. «Я не могу умолчать того обстоятельства, – говорил он думцам, – что в виду дешевизны строятся они из старых барочных кокор и таких же досок, с добавлением самой малой части новых досок».
Надо отдать должное столичным журналистам. Они-то давно били тревогу по этому поводу! «Петербургская газета» еще весной 1899 года представляла список мостов, которые уже тогда «ожидали своей очереди провалиться».
В этом перечне были мосты – Храповицкий, Кашин, Матисов, Ново-Калинкин, Банный, Молвинский и другие деревянные переправы.
«Езда шагом» – такая надпись красовалась на одних мостах. «Но и ходьба шагом часто по ним очень небезопасна», – предупреждали газеты. По другим, вроде Каменноостровского, не дозволялось возить тяжелые грузы. «Однако по нему ходят конки, которые тяжелее запрещаемых 200 пудов».
На некоторые мосты ломовые извозчики не допускались вовсе. В эту категорию однажды попал Гутуевский мост, «парализовав целую фабрику», куда месяц не доставлялись грузы с таможни, бывшей на Гутуевском острове.
Однако от этих «мер безопасности» толку было мало. Деревянные мосты и мостики то и дело преподносили сюрпризы. В 1900 году, к примеру, не выдержал тяжести ломовой телеги настил переправы через речку Таракановку и провалился. А из-под Строгановского моста упала доска прямо на проходивший под ним пароходик, полный публики…
Между прочим, на злополучном Египетском мосту тоже висело предупреждение о «езде шагом». Но ведь и конные гренадеры по нему не галопом скакали! Более того, как выяснилось потом в жарких дебатах на тему «кто виноват», мост этот даже ремонтировали. Дважды: в 1904 году и один раз, не поверите, в начале января 1905-го! Правда, как писали потом, ремонт этот производился «странным манером»: поверх прогнивших досок просто наколачивались другие. Одна из столичных газет ехидно заметила, что Управа вообще устраивает «опыты экономического строительства из древесного хлама».
Результаты таких ремонтов, как видите, не заставляли себя ждать…
Старый Египетский мост не дожил до своего 80-летия лишь одного года. После катастрофы в створе нынешнего Лермонтовского проспекта (который позже составился из Ново-Петергофского проспекта, Могилевской и Большой Мастерской улиц) очень быстро, за три месяца, к середине апреля, возвели взамен временную переправу – опять деревянную.