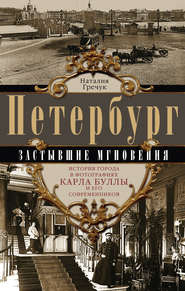По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А в старинном гроте оборудовали «кофейный дом, снабженный всеми лучшими припасами для завтраков и прохладительными напитками».
Однако «гуляльщикам» приходилось все чаще запасаться деньгами, чтобы провести время в саду. Тем более вечером, когда вход был платным – так сад ограждали от простонародья. Но и днем тут могли взять с посетителей плату, к примеру, «за посмотр» какого-нибудь состязания. Так, осенью 1827 года, когда соревновались в Летнем саду «скороходы» Сальман и Павловский, посетители платили не только за кресла и стулья, но и «за стояние», стоившее рубль! И в 1832 году некий чиновник, подписавший свое письмо в «Северную пчелу» псевдонимом «Le faneur de dimanche» («Прогуливающийся по воскресеньям»), жаловался, что уже третий раз лишен возможности гулять в саду «безденежно», поскольку там «бегает за деньги г. N»…
Впрочем, устраивались в Летнем и не столь принудительные развлечения и удовольствия. По аллеям ходили разносчики, торгующие фруктами и «конфектами», – покупай, если есть деньги и охота! (Но специальный приказ полиции оговаривал условие: чтобы разносчики работали не «с улицы», а по найму у содержателя кофейного домика.)
По словам «Голоса», летом 1865 года некий антрепренер устроил в саду для детей «не старее 12 лет» катание на козах за пятачок в один конец… В 1882 году арендовал Летний сад предприниматель Балашев, который по примеру садов заграничных завел тут «павильоны для определения веса тела желающих, силы, емкости легких и т. п.» За один только июнь, сообщали «Биржевые ведомости», в балашевских павильонах побывало до 6 тысяч человек: «средний вес взвешивавшихся был 150–160 фунтов». (Неужто так худы были тогда зажиточные петербуржцы, едва переваливали за 60 килограммов?)
Еще писали газеты в разные годы и о проводимых в саду лотереях-аллегри, о концертах полковой музыки, о благотворительных базарах и праздничных гуляньях. Кстати, в начале ушедшего века устроители развлечений в саду так вошли во вкус, что даже предложили было вырубить в нем часть деревьев, чтобы построить скетинг-ринк. Хорошо, вступилось за сад только организовавшееся тогда Общество охраны памятников старины…
Одно из таких гуляний традиционно устраивалось здесь в Духов день – первый понедельник после Троицы. Интересно же оно тем, что в историю Летнего сада вошло как «смотрины невест». Да, с той самой поры, как купцы по милости Елизаветы были допущены в Летний сад, стали они в Духов день приводить сюда своих дочек на показ потенциальным женихам. Здесь, «под столетними липами», те стояли «нежные, как едва распустившаяся лилия, томные, как майская ночь на Севере, стройные, как царскосельский тополь, богатые дарами природы и торговых оборотов»… (Так живописала картину «Северная пчела» в 1838 году.)
Столичные газеты утверждали, что обычай этот не вывелся даже и в начале XX века; будто девицы на выданье все так же отправлялись в Духов день в Летний сад, себя показать и жениха присмотреть…
«Сад Таврической прекрасной»
Сад Таврической прекрасной!
Как люблю в тебе я быть,
Хоть тоски моей ужасной
И не можешь истребить.
Это стихотворение, написанное теперь забытым поэтом Александром Измайловым, весьма подходящий зачин к этому рассказу.
Жаль только не спросить уже автора, сочинившего его в 1804 году: как это он тогда гулял в чужих-то владениях? Ведь для публики Таврический сад был открыт только в 1861 году.
«По Высочайшему повелению, – писала тогда «Северная пчела», – с 24-го сего июля Таврический сад, за исключением оранжереи и фруктового сада, открыт для общественного гулянья… Вход в сад назначен с Таврической улицы, чрез так называемый Государев дворик».
В разрешении «общественного гулянья» была одна тонкость. Хозяином сада было Министерство императорского двора, и потому публика тут прогуливалась немногочисленная и особая. Каждый раз, открывая с 1 мая «сезон», министерство через «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства» уведомляло: «Доступ в сад всем нижним чинам, чернорабочим и лицам, находящимся в нетрезвом виде, воспрещен». А как же иначе, если в Таврический сад, случалось, захаживали члены царской семьи! О том сообщал, к примеру, журнал «Воскресный досуг», рассказывая в 1865 году о таком истинно русском развлечении, как ледяные горы. «Красивейшие бывают всегда в Таврическом саду, где катается иногда и императорская фамилия». (И, между прочим, замечая: «В гигиеническом отношении врачи осуждают наши народные забавы гор и качелей. Замирание сердца, ощущаемое всегда при этом и считающееся особенным удовольствием, производит часто аневризмы».)
«Министерское» положение сада вызвано было тем, что изначальной его функцией являлось снабжение царского двора свежими овощами и фруктами во всякое время года. На всю столицу славился он своими теплицами и оранжереями. (Объявление, данное в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции» 13 марта 1870 года: «Строительная контора министерства Императорского Двора вызывает желающих принять на себя производство следующих работ по Таврическому саду: перестройку ананасной оранжереи – 4149 рублей, постройку односторонней оранжереи – 4973 рубля, постройку парников – 1983 рубля».)
…И все-таки с годами сад постепенно терял свою привилегированность. Его стали обживать дети, любители верховой езды, попечители о народной трезвости… Это обстоятельство однажды даже привело газету «Новое время» к мысли, что Таврическому саду пришел конец. Весной 1914 года она заявила читателям, что сад «доживает свои последние дни». «Началось с того, что значительную часть его территории заняло своими постройками попечительство о народной трезвости. Затем понадобилось зачем-то вырубить старые тенистые деревья… Общество лаунтеннисистов, не довольствуясь выстроенным несколько лет назад домом, теперь сгородило какой-то нелепый помост…
Потом явилось другое общество – садоводства, на опушке сада воздвигло огромное кирпичное здание…»
Кстати, садоводы стали, пожалуй, самыми активными обитателями Таврического. Они регулярно устраивали здесь выставки своих, как тогда выражались, произведений.
На этой фотографии 1914 года – павильон одной из таких выставок. Башня-бутыль рекламирует целительный виноградный сок Н.Н. Бекетова, из крымского «лечебного» сорта шасла. На большом щите у входа представлены для доказательства результаты анализа, произведенного в Императорском институте экспериментальной медицины. Посетитель мог и лично убедиться в отменности лечебного сока Бекетова, выпив за гривенник стаканчик…
Интересно, что тот же самый заголовок, что и в «Новом времени» – «Конец Таврического сада» – был повторен другой газетой и в другие времена. Правда, заметка в вечерней «Красной газете» за 21 мая 1932 года дышала оптимизмом: «На его месте растет фабрика культуры и отдыха». Старый сад, сообщала газета, превращается в парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки. Здесь будут работать цирк шапито, эстрадный театр на полторы тысячи мест, звуковое кино, клуб с затейниками… Из клуба пойдет «сплошной агитационный поток лозунгов по магистральным аллеям парка», так что пройтись можно будет по Аллее ударников или Аллее молодежи…
Но вернемся опять к стихам Александра Измайлова, когда-то объяснившегося в любви Таврическому саду.
Только лишь одной природы
Ты имеешь красоты,
Просто все в тебе: и воды,
И деревья, и цветы.
За два с лишним века существования сада человеческие руки многократно подвергали его переделкам, а все равно большей красоты, чем дана ему природой, не добиться…
Для отдохновения и прогулок
Эти двое на фотографии – молодые «боярин» с «холопом» – участники маскарада, устроенного на Рождество 1899 года членами Петербургского общества любителей бега на коньках. Такие их праздники традиционно проходили в Юсуповом саду. История же самого сада весьма интересна.
По его имени не стоит труда догадаться, что когда-то был он владением частным, принадлежавшим в свое время князьям Юсуповым. Однако 10 октября 1810 года по купчей крепости отошел сад со всеми строениями Министерству путей сообщения, которое сделало его своей резиденцией. Тем не менее обиходное название – Юсупов – сохранил.
В 1820-е годы, когда российским ведомством путей сообщения заведовал герцог Александр Вюртембергский, Юсупов сад открыли для доступа горожанам. Но потом его обнесли, как писало в 1862 году «Северное сияние», «обшитою изнутри решеткою на каменном цоколе, так что для постороннего глаза стал он непроницаем». Это обстоятельство, собственно, и послужило поводом для выступления журнала: сад, занимающий огромный участок по протяжению Садовой улицы и столь подходящий служить «местом отдохновения и прогулок», не приносит городу никакой пользы.
Общественное мнение было подготовлено. Ничего не оставалось делать, как 7 марта 1863 года «высочайше соизволить» – часть Юсупова сада для публики открыть, при условии содержания оной части «средствами города и под наблюдением полиции». О каковой милости публику известили объявлением в газете «Северная пчела».
С 17 апреля 1863 года ворота сада на Садовой улице для гуляющих петербуржцев стали ежедневно распахиваться. Почти сразу новую территорию начали осваивать и общественные организации. Уже в 1860-е годы устроил здесь зимой катки и ледяные горы Яхт-клуб. Позже развернулась деятельность Общества любителей бега на коньках: оно тоже заливало на прудах общедоступные катки, а главное, организовывало праздники и соревнования фигуристов, даже международные. «Это не лишенное гигиенической подкладки развлечение, – писало в 1882 году «Новое время» о катании на коньках, – с каждым годом прививается все более и более…»
Но уж кто чувствовал себя настоящим хозяином сада, так это Общество спасания на водах. Сначала оно имело там два помещения – для канцелярии и склада имущества. Потом, в 1894 году выпросило у царя участок в саду, из-за чего пришлось вырубить ряд деревьев и снести городской ретирадник, сиречь туалет. Через четыре года последовала новая просьба о расширении: спасатели на водах подобрались прямо к прудам, установив там подъемный кран для отработки способов спасания… Все их претензии привели к тому, что к 1900 году вообще возник спор о том, кому Юсупов сад в конце концов принадлежит и кто может распоряжаться его территорией.
Министерство путей сообщения вдруг заявило, что сад отдали городу во временное пользование, на самом деле это министерская собственность, а потому оно намерено строить здесь здание для своего архива и железнодорожного музея.
Управа с Думою доказывали, что после князей Юсуповых данная территория отошла не министерству, а городу: о купчей крепости от 10 октября 1810 года все только говорят, а самого документа не найти – а на нет и суда нет!
В заботе об ограждении городского публичного сада на Садовой улице от всяких посягательств городские власти даже готовы были судиться… Да вот только Общество спасания очередной кусок сада уже прибрало к рукам, и новое здание министерство начало строить – ему даже и номер по Садовой дали, 50-й.
А все потому, что добрый Николай II подписывал все прошения, которые ему подносили. Вот так же в очередной раз подписал он в 1903 году и ходатайство города о сохранении Юсупова сада «для общего всех столичных обывателей пользования, без дальнейшего сокращения посредством застройки». И это после того, как музей Министерства путей сообщения уже принял первых посетителей! А через несколько лет снова уступил Николай нажиму путейских руководителей и разрешил отрезать от сада еще кусочек, для устройства проезда от Садовой до Фонтанки.
Так что нам с вами от старого Юсупова сада досталась для отдохновения и прогулок совсем маленькая часть…
Сад из свода законов
«О наименовании вновь открытого в Санкт-Петербурге сада Александровским» – такой указ от 8 июля 1874 года внесен в Полное собрание законов Российской империи. Вот в какие анналы попал наш сад, знакомый каждому петербуржцу, известный и людям приезжим, всеми любимый и, кажется, вечно существующий по соседству с Адмиралтейством.
А появился он благодаря тому, что городские власти, взявшись построить новую невскую набережную, Адмиралтейскую, решили благоустроить местность и по другую сторону Адмиралтейства. Тут стали разбивать сад. Инициатором, попечителем и хозяином дела предстало Российское общество садоводства под «просвещенным руководством» генерал-адъютанта и любителя ботаники Самуила Алексеевича Грейга. Впрочем, в помощниках у него были профессионалы: главный садовник Императорского Ботанического сада Регель, служащий того же сада Бергман и садовод Гедевиг.
К работам, как водилось тогда – после молебна, приступили 3 июля 1872 года, и «ровно в два года пустынная площадь превратилась в зеленеющий и цветущий сад». Так писал 10 июля 1874 года, два дня спустя после его открытия, «Петербургский листок». Он же сообщил, что потребовалось ради сей красы снять бывшую тут мостовую, насыпать земли почти 3600 кубических сажен, затем разбить газоны, насадить деревья и кустарники числом до 4000, проложить дорожки, установить ограду – «изящную и легкую решетку из ромбоидально переплетенной проволоки». «Петербургский листок» тогда не назвал имени автора, предложившего рисунок решетки, а был им петербургский инженер-архитектор Иван Мерц. (Ту симпатичную ограду, наверное, кое-кто помнит до сих пор, ее сняли не так уж и давно.)
Открывался Александровский сад весьма торжественно. Хоть происходила церемония в дождливый понедельник, но приехал сам Александр II. У ворот со стороны Гороховой, царь вышел из коляски и «изволил пройти» до газона против портала Исаакиевского собора, где лично посадил дубок. Там же, «снисходя на ходатайство» Общества садоводства, разрешил назвать сад своим именем…
Поначалу все украшение нового сада составляли лишь деревья и кустарники. Первый памятник – Василию Андреевичу Жуковскому – появился здесь в 1887 году. Он открыл путь остальным – Пржевальскому, Гоголю, Лермонтову, Глинке.
Но еще раньше появился в саду, против Адмиралтейской башни, фонтан. Первый его проект был в некотором роде даже устрашающим. «Недавно возвратился из-за границы наш известный скульптор г. Годебский, – сообщали в декабре 1874 года «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции», – и привез проект колоссального фонтана для нового сада». Замысел автора состоял в том, чтобы установить посреди гранитного бассейна с беломраморными ступенями огромную ростральную колонну, окруженную аллегорическими изображениями четырех главных рек России. (Надо ли было искать за границей эту идею?) Из верха колонны и с ее боков должны были извергаться «обильные каскады воды». Лили бы воду из рогов-раковин еще и тритоны… «Размерами своими этот фонтан едва ли не превзойдет известные фонтаны, существующие в Европе».
Слава богу, Общество садоводства и столичные власти не дали г-ну годебскому заслонить Адмиралтейство своим творением.
В 1876 году стали строить в саду более скромный фонтан, по проекту архитектора городской Управы А.Р. Гешвенда. Подряд на работу взял некий Овчинников и растянул ее на три года. Да и работал с браком, так что пришлось уже по ходу дела браться за ремонт. Несколько гласных даже потребовали привлечь к суду не самого Овчинникова, правда, а начальника технического отделения Управы… Но в общем фонтан получился красивый, мы с вами можем это подтвердить. Первыми же полюбовались им все те же требовательные гласные, специально пришедшие в сад в субботнее утро 13 октября 1879 года, чтобы произвести «окончательную пробу».
…Александровский сад быстро вошел в разряд элитных столичных садов. Публика там дышала воздухом благородная; кто не хотел гулять пешком, мог нанять кресло на колесах с катальщиком за 50 копеек в час. «Новое время» даже позволило себе однажды возмутиться: «Было бы очень желательно, чтобы лица, заведующие Летним и Александровским садами, объяснили, на каком основании запрещается вход в эти сады лицам простого звания, одетым, как выражается полиция, по-деревенски?»
Впрочем, в начале XX века, когда делался этот снимок, Александровский сад стал демократичнее. А потом он даже и зваться стал Садом трудящихся, как Невский – проспектом 25-го Октября, а арка Главного штаба – аркой Красной армии…
Сквер от штабс-капитана
Мы так привыкли к виду многих заповедных уголков нашего города, что кажется, будто были они такими, а не иными, всегда. Вот и Исаакиевскую площадь без сквера перед собором представить себе трудно. Однако было время, когда пространство между Мариинским дворцом и Исаакием являло собою замощенный пустырь…
Однако «гуляльщикам» приходилось все чаще запасаться деньгами, чтобы провести время в саду. Тем более вечером, когда вход был платным – так сад ограждали от простонародья. Но и днем тут могли взять с посетителей плату, к примеру, «за посмотр» какого-нибудь состязания. Так, осенью 1827 года, когда соревновались в Летнем саду «скороходы» Сальман и Павловский, посетители платили не только за кресла и стулья, но и «за стояние», стоившее рубль! И в 1832 году некий чиновник, подписавший свое письмо в «Северную пчелу» псевдонимом «Le faneur de dimanche» («Прогуливающийся по воскресеньям»), жаловался, что уже третий раз лишен возможности гулять в саду «безденежно», поскольку там «бегает за деньги г. N»…
Впрочем, устраивались в Летнем и не столь принудительные развлечения и удовольствия. По аллеям ходили разносчики, торгующие фруктами и «конфектами», – покупай, если есть деньги и охота! (Но специальный приказ полиции оговаривал условие: чтобы разносчики работали не «с улицы», а по найму у содержателя кофейного домика.)
По словам «Голоса», летом 1865 года некий антрепренер устроил в саду для детей «не старее 12 лет» катание на козах за пятачок в один конец… В 1882 году арендовал Летний сад предприниматель Балашев, который по примеру садов заграничных завел тут «павильоны для определения веса тела желающих, силы, емкости легких и т. п.» За один только июнь, сообщали «Биржевые ведомости», в балашевских павильонах побывало до 6 тысяч человек: «средний вес взвешивавшихся был 150–160 фунтов». (Неужто так худы были тогда зажиточные петербуржцы, едва переваливали за 60 килограммов?)
Еще писали газеты в разные годы и о проводимых в саду лотереях-аллегри, о концертах полковой музыки, о благотворительных базарах и праздничных гуляньях. Кстати, в начале ушедшего века устроители развлечений в саду так вошли во вкус, что даже предложили было вырубить в нем часть деревьев, чтобы построить скетинг-ринк. Хорошо, вступилось за сад только организовавшееся тогда Общество охраны памятников старины…
Одно из таких гуляний традиционно устраивалось здесь в Духов день – первый понедельник после Троицы. Интересно же оно тем, что в историю Летнего сада вошло как «смотрины невест». Да, с той самой поры, как купцы по милости Елизаветы были допущены в Летний сад, стали они в Духов день приводить сюда своих дочек на показ потенциальным женихам. Здесь, «под столетними липами», те стояли «нежные, как едва распустившаяся лилия, томные, как майская ночь на Севере, стройные, как царскосельский тополь, богатые дарами природы и торговых оборотов»… (Так живописала картину «Северная пчела» в 1838 году.)
Столичные газеты утверждали, что обычай этот не вывелся даже и в начале XX века; будто девицы на выданье все так же отправлялись в Духов день в Летний сад, себя показать и жениха присмотреть…
«Сад Таврической прекрасной»
Сад Таврической прекрасной!
Как люблю в тебе я быть,
Хоть тоски моей ужасной
И не можешь истребить.
Это стихотворение, написанное теперь забытым поэтом Александром Измайловым, весьма подходящий зачин к этому рассказу.
Жаль только не спросить уже автора, сочинившего его в 1804 году: как это он тогда гулял в чужих-то владениях? Ведь для публики Таврический сад был открыт только в 1861 году.
«По Высочайшему повелению, – писала тогда «Северная пчела», – с 24-го сего июля Таврический сад, за исключением оранжереи и фруктового сада, открыт для общественного гулянья… Вход в сад назначен с Таврической улицы, чрез так называемый Государев дворик».
В разрешении «общественного гулянья» была одна тонкость. Хозяином сада было Министерство императорского двора, и потому публика тут прогуливалась немногочисленная и особая. Каждый раз, открывая с 1 мая «сезон», министерство через «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства» уведомляло: «Доступ в сад всем нижним чинам, чернорабочим и лицам, находящимся в нетрезвом виде, воспрещен». А как же иначе, если в Таврический сад, случалось, захаживали члены царской семьи! О том сообщал, к примеру, журнал «Воскресный досуг», рассказывая в 1865 году о таком истинно русском развлечении, как ледяные горы. «Красивейшие бывают всегда в Таврическом саду, где катается иногда и императорская фамилия». (И, между прочим, замечая: «В гигиеническом отношении врачи осуждают наши народные забавы гор и качелей. Замирание сердца, ощущаемое всегда при этом и считающееся особенным удовольствием, производит часто аневризмы».)
«Министерское» положение сада вызвано было тем, что изначальной его функцией являлось снабжение царского двора свежими овощами и фруктами во всякое время года. На всю столицу славился он своими теплицами и оранжереями. (Объявление, данное в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции» 13 марта 1870 года: «Строительная контора министерства Императорского Двора вызывает желающих принять на себя производство следующих работ по Таврическому саду: перестройку ананасной оранжереи – 4149 рублей, постройку односторонней оранжереи – 4973 рубля, постройку парников – 1983 рубля».)
…И все-таки с годами сад постепенно терял свою привилегированность. Его стали обживать дети, любители верховой езды, попечители о народной трезвости… Это обстоятельство однажды даже привело газету «Новое время» к мысли, что Таврическому саду пришел конец. Весной 1914 года она заявила читателям, что сад «доживает свои последние дни». «Началось с того, что значительную часть его территории заняло своими постройками попечительство о народной трезвости. Затем понадобилось зачем-то вырубить старые тенистые деревья… Общество лаунтеннисистов, не довольствуясь выстроенным несколько лет назад домом, теперь сгородило какой-то нелепый помост…
Потом явилось другое общество – садоводства, на опушке сада воздвигло огромное кирпичное здание…»
Кстати, садоводы стали, пожалуй, самыми активными обитателями Таврического. Они регулярно устраивали здесь выставки своих, как тогда выражались, произведений.
На этой фотографии 1914 года – павильон одной из таких выставок. Башня-бутыль рекламирует целительный виноградный сок Н.Н. Бекетова, из крымского «лечебного» сорта шасла. На большом щите у входа представлены для доказательства результаты анализа, произведенного в Императорском институте экспериментальной медицины. Посетитель мог и лично убедиться в отменности лечебного сока Бекетова, выпив за гривенник стаканчик…
Интересно, что тот же самый заголовок, что и в «Новом времени» – «Конец Таврического сада» – был повторен другой газетой и в другие времена. Правда, заметка в вечерней «Красной газете» за 21 мая 1932 года дышала оптимизмом: «На его месте растет фабрика культуры и отдыха». Старый сад, сообщала газета, превращается в парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки. Здесь будут работать цирк шапито, эстрадный театр на полторы тысячи мест, звуковое кино, клуб с затейниками… Из клуба пойдет «сплошной агитационный поток лозунгов по магистральным аллеям парка», так что пройтись можно будет по Аллее ударников или Аллее молодежи…
Но вернемся опять к стихам Александра Измайлова, когда-то объяснившегося в любви Таврическому саду.
Только лишь одной природы
Ты имеешь красоты,
Просто все в тебе: и воды,
И деревья, и цветы.
За два с лишним века существования сада человеческие руки многократно подвергали его переделкам, а все равно большей красоты, чем дана ему природой, не добиться…
Для отдохновения и прогулок
Эти двое на фотографии – молодые «боярин» с «холопом» – участники маскарада, устроенного на Рождество 1899 года членами Петербургского общества любителей бега на коньках. Такие их праздники традиционно проходили в Юсуповом саду. История же самого сада весьма интересна.
По его имени не стоит труда догадаться, что когда-то был он владением частным, принадлежавшим в свое время князьям Юсуповым. Однако 10 октября 1810 года по купчей крепости отошел сад со всеми строениями Министерству путей сообщения, которое сделало его своей резиденцией. Тем не менее обиходное название – Юсупов – сохранил.
В 1820-е годы, когда российским ведомством путей сообщения заведовал герцог Александр Вюртембергский, Юсупов сад открыли для доступа горожанам. Но потом его обнесли, как писало в 1862 году «Северное сияние», «обшитою изнутри решеткою на каменном цоколе, так что для постороннего глаза стал он непроницаем». Это обстоятельство, собственно, и послужило поводом для выступления журнала: сад, занимающий огромный участок по протяжению Садовой улицы и столь подходящий служить «местом отдохновения и прогулок», не приносит городу никакой пользы.
Общественное мнение было подготовлено. Ничего не оставалось делать, как 7 марта 1863 года «высочайше соизволить» – часть Юсупова сада для публики открыть, при условии содержания оной части «средствами города и под наблюдением полиции». О каковой милости публику известили объявлением в газете «Северная пчела».
С 17 апреля 1863 года ворота сада на Садовой улице для гуляющих петербуржцев стали ежедневно распахиваться. Почти сразу новую территорию начали осваивать и общественные организации. Уже в 1860-е годы устроил здесь зимой катки и ледяные горы Яхт-клуб. Позже развернулась деятельность Общества любителей бега на коньках: оно тоже заливало на прудах общедоступные катки, а главное, организовывало праздники и соревнования фигуристов, даже международные. «Это не лишенное гигиенической подкладки развлечение, – писало в 1882 году «Новое время» о катании на коньках, – с каждым годом прививается все более и более…»
Но уж кто чувствовал себя настоящим хозяином сада, так это Общество спасания на водах. Сначала оно имело там два помещения – для канцелярии и склада имущества. Потом, в 1894 году выпросило у царя участок в саду, из-за чего пришлось вырубить ряд деревьев и снести городской ретирадник, сиречь туалет. Через четыре года последовала новая просьба о расширении: спасатели на водах подобрались прямо к прудам, установив там подъемный кран для отработки способов спасания… Все их претензии привели к тому, что к 1900 году вообще возник спор о том, кому Юсупов сад в конце концов принадлежит и кто может распоряжаться его территорией.
Министерство путей сообщения вдруг заявило, что сад отдали городу во временное пользование, на самом деле это министерская собственность, а потому оно намерено строить здесь здание для своего архива и железнодорожного музея.
Управа с Думою доказывали, что после князей Юсуповых данная территория отошла не министерству, а городу: о купчей крепости от 10 октября 1810 года все только говорят, а самого документа не найти – а на нет и суда нет!
В заботе об ограждении городского публичного сада на Садовой улице от всяких посягательств городские власти даже готовы были судиться… Да вот только Общество спасания очередной кусок сада уже прибрало к рукам, и новое здание министерство начало строить – ему даже и номер по Садовой дали, 50-й.
А все потому, что добрый Николай II подписывал все прошения, которые ему подносили. Вот так же в очередной раз подписал он в 1903 году и ходатайство города о сохранении Юсупова сада «для общего всех столичных обывателей пользования, без дальнейшего сокращения посредством застройки». И это после того, как музей Министерства путей сообщения уже принял первых посетителей! А через несколько лет снова уступил Николай нажиму путейских руководителей и разрешил отрезать от сада еще кусочек, для устройства проезда от Садовой до Фонтанки.
Так что нам с вами от старого Юсупова сада досталась для отдохновения и прогулок совсем маленькая часть…
Сад из свода законов
«О наименовании вновь открытого в Санкт-Петербурге сада Александровским» – такой указ от 8 июля 1874 года внесен в Полное собрание законов Российской империи. Вот в какие анналы попал наш сад, знакомый каждому петербуржцу, известный и людям приезжим, всеми любимый и, кажется, вечно существующий по соседству с Адмиралтейством.
А появился он благодаря тому, что городские власти, взявшись построить новую невскую набережную, Адмиралтейскую, решили благоустроить местность и по другую сторону Адмиралтейства. Тут стали разбивать сад. Инициатором, попечителем и хозяином дела предстало Российское общество садоводства под «просвещенным руководством» генерал-адъютанта и любителя ботаники Самуила Алексеевича Грейга. Впрочем, в помощниках у него были профессионалы: главный садовник Императорского Ботанического сада Регель, служащий того же сада Бергман и садовод Гедевиг.
К работам, как водилось тогда – после молебна, приступили 3 июля 1872 года, и «ровно в два года пустынная площадь превратилась в зеленеющий и цветущий сад». Так писал 10 июля 1874 года, два дня спустя после его открытия, «Петербургский листок». Он же сообщил, что потребовалось ради сей красы снять бывшую тут мостовую, насыпать земли почти 3600 кубических сажен, затем разбить газоны, насадить деревья и кустарники числом до 4000, проложить дорожки, установить ограду – «изящную и легкую решетку из ромбоидально переплетенной проволоки». «Петербургский листок» тогда не назвал имени автора, предложившего рисунок решетки, а был им петербургский инженер-архитектор Иван Мерц. (Ту симпатичную ограду, наверное, кое-кто помнит до сих пор, ее сняли не так уж и давно.)
Открывался Александровский сад весьма торжественно. Хоть происходила церемония в дождливый понедельник, но приехал сам Александр II. У ворот со стороны Гороховой, царь вышел из коляски и «изволил пройти» до газона против портала Исаакиевского собора, где лично посадил дубок. Там же, «снисходя на ходатайство» Общества садоводства, разрешил назвать сад своим именем…
Поначалу все украшение нового сада составляли лишь деревья и кустарники. Первый памятник – Василию Андреевичу Жуковскому – появился здесь в 1887 году. Он открыл путь остальным – Пржевальскому, Гоголю, Лермонтову, Глинке.
Но еще раньше появился в саду, против Адмиралтейской башни, фонтан. Первый его проект был в некотором роде даже устрашающим. «Недавно возвратился из-за границы наш известный скульптор г. Годебский, – сообщали в декабре 1874 года «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции», – и привез проект колоссального фонтана для нового сада». Замысел автора состоял в том, чтобы установить посреди гранитного бассейна с беломраморными ступенями огромную ростральную колонну, окруженную аллегорическими изображениями четырех главных рек России. (Надо ли было искать за границей эту идею?) Из верха колонны и с ее боков должны были извергаться «обильные каскады воды». Лили бы воду из рогов-раковин еще и тритоны… «Размерами своими этот фонтан едва ли не превзойдет известные фонтаны, существующие в Европе».
Слава богу, Общество садоводства и столичные власти не дали г-ну годебскому заслонить Адмиралтейство своим творением.
В 1876 году стали строить в саду более скромный фонтан, по проекту архитектора городской Управы А.Р. Гешвенда. Подряд на работу взял некий Овчинников и растянул ее на три года. Да и работал с браком, так что пришлось уже по ходу дела браться за ремонт. Несколько гласных даже потребовали привлечь к суду не самого Овчинникова, правда, а начальника технического отделения Управы… Но в общем фонтан получился красивый, мы с вами можем это подтвердить. Первыми же полюбовались им все те же требовательные гласные, специально пришедшие в сад в субботнее утро 13 октября 1879 года, чтобы произвести «окончательную пробу».
…Александровский сад быстро вошел в разряд элитных столичных садов. Публика там дышала воздухом благородная; кто не хотел гулять пешком, мог нанять кресло на колесах с катальщиком за 50 копеек в час. «Новое время» даже позволило себе однажды возмутиться: «Было бы очень желательно, чтобы лица, заведующие Летним и Александровским садами, объяснили, на каком основании запрещается вход в эти сады лицам простого звания, одетым, как выражается полиция, по-деревенски?»
Впрочем, в начале XX века, когда делался этот снимок, Александровский сад стал демократичнее. А потом он даже и зваться стал Садом трудящихся, как Невский – проспектом 25-го Октября, а арка Главного штаба – аркой Красной армии…
Сквер от штабс-капитана
Мы так привыкли к виду многих заповедных уголков нашего города, что кажется, будто были они такими, а не иными, всегда. Вот и Исаакиевскую площадь без сквера перед собором представить себе трудно. Однако было время, когда пространство между Мариинским дворцом и Исаакием являло собою замощенный пустырь…