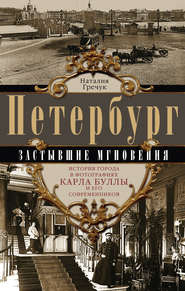По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В феврале 1860 года в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» появилось объявление от правления 1-го округа путей сообщения: вызывались желающие взять подряд на устройство сквера на Мариинской площади. (Позже часть ее, от открытого в 1859 году памятника Николаю I до собора, стала зваться Исаакиевской.) Приглашение много раз повторять не потребовалось. Желающие нашлись. Штабс-капитан Ратьков взял на себя земляные работы с разбивкою дорожек и клумб, а заводчик с музыкальной фамилией Шопен вызвался изготовить для сквера чугунные ограду и скамейки… К делу приступить они готовы были незамедлительно, сразу «по стаянии снега», чтобы окончить работы уже к лету.
И вот: «Сегодня, 16-го июня, открыт для публики Исаакиевский сквер». Однако петербуржцы, прочитавшие это сообщение, были разочарованы: оказалось, оповестившая об открытии сквера «Северная пчела» полетела впереди событий. Пришлось ей давать поправку: «Предположенное вчера открытие для публики Исаакиевского сквера отложено на несколько дней». Но открыли его только 19 июля и сразу от Министерства путей сообщения передали городу. В июле же Александр II высочайше повелел именовать новый сквер Исаакиевским. Представлял тот собою правильный четырехугольник с дорожками и газонами, правда, без обещанных цветочного киоска и фонтана. Окружала его красивая решетка с пятью калитками. Снаружи шли «плитные» тротуары с торцовыми переходами к соседним домам. Уже через четыре года, по словам «Русского инвалида», сквер «потерял свой пустынный грустный характер», превратившись в «молодой зеленистый сад». Его стали считать одним из украшений столицы, там всегда было много гуляющих, дети играли в песке…
Летом 1865 года старшина петербургских личных дворян и почетных граждан Н.Д. Быков взял на себя работы по благоустройству сквера. Он докладывал Думе, сколько посадил там новых деревьев и кустов и каких пород, сколько привез песка «парголовского, так как крупный и не дает пыли, для игры детей удобен и здоров, как о том утверждают многие доктора». Эти быковские деревья и вызвали потом на свет проблему, которую по обыкновению несколько лет решали городские власти, пока, наконец, не покончили с ней.
А суть дела была в следующем. Весной 1908 года градоначальник Д.В. Драчевский писал городскому голове Н.А. Резцову: «Исаакиевский собор составляет безусловно выдающийся исторический памятник блестящей эпохи минувших царствований… К сожалению, от храма не получается цельности подобающего ему художественного впечатления, так как он закрыт от зрителей разросшимися деревьями сквера… Деревья в нем растут как в лесу».
Драчевский потребовал их вырубить, устроить в сквере цветник и даже не пожалел на то имеющиеся в его личном градоначальническом фонде деньги.
Голова сообщил об этом требовании Управе и Думе. Те возразили, что в свое время поручали Быкову посадку деревьев не просто так, а выполняя повеление Александра II, который обратил внимание на «недостаточность их числа». «Имелось в виду предоставить публике тенистое место для отдыха и прогулки». Так что, посчитали думцы с управцами, сад как нельзя лучше отвечает назначенным целям «с практической стороны». Кроме того, деревья закрывают собор всего каких-то четыре месяца в году, и при том что в городе и так «бедно с растительностью», стоит ли еще и уничтожать ее сознательно…
Но от градоначальника и в 1909–1910 годах продолжали поступать те же требовательные послания. В Думе их или игнорировали или вяло обсуждали. Сопротивление думцев поддержала общественность. В журнале «Зодчий» в 1910 году опубликовали несколько заметок в защиту существующего сквера…
Но все они были обречены на поражение.
«Вырубили Исаакиевский сквер», – печально констатировала «Русская художественная летопись» в ноябре 1912 года. Официально это называлось переустройством. Уничтожили не только деревья, но и старые чугунные шопеновские решетки, заменив их ограждением из железных труб. Зато Исаакиевский собор стал виден от самого Мариинского дворца, о чем свидетельствует снимок, сделанный в том же самом 1912-м…
Иждивением купцов
«На площади противу нового Михайловского дворца устроивается род Лондонского сквера (square). Обширное пространство окружено красивою чугунною решеткою, а в средине делаются дорожки и будут посажены деревья…»
Такую информацию напечатали в «Северной пчеле» в сентябре 1827 года. Из нее можно понять, что устраиваемый «род Лондонского сквера» был в новинку для северной столицы, недаром газета дала в скобочках, на всякий случай, пояснение по-английски.
Но спустя время скверы один за другим появляются на петербургских площадях. И что интересно, разбиваются они не только стараниями городских властей, но и иждивением, как тогда выражались, отдельных столичных обывателей.
Так, содержателю цирка на Фонтанке Гаэтано Чинизелли обязаны мы сквером на Манежной площади. Правда, то были, так сказать, труды поневоле: Чинизелли просто выполнил обязательное условие, выставленное городом при переводе его цирка с Манежной на новое место.
Но вот два случая совсем другого свойства.
Жительствовал на Васильевском острове купец Степан Федорович Соловьев, который был не только удачливым коммерсантом, но и щедрым благотворителем. Известно, например, что именно по его инициативе организовали сбор денег в помощь городам, пострадавшим от пожаров, и Соловьев стал «одним из главных и ревностных исполнителей этого дела».
А в попечении о василеостровских «недостаточных» детях, которым негде было погулять, он пожертвовал 100 000 рублей на устройство сквера по соседству с Академией художеств, на замощенной булыжником площади, единственным украшением коей являлся Румянцевский обелиск, перенесенный сюда в 1818 году.
Новый сквер был совершенно готов к 1867 году. Вокруг него установили газовые фонари; в самом сквере Степан Федорович позаботился организовать недорогой буфет для гуляющих – «с продажею чая, кофе, молока, яиц всмятку, мороженого, лимонада «газес» и обыкновенного»…
Благодарные василеостровцы между собой быстро присвоили новому скверу именование Соловьевского и даже просили о разрешении установить там бюст своего благодетеля. В 1867 году их ходатайство рассмотрели на заседании Думы, его поддержали гласные и направили по инстанции на утверждение. Решать сей вопрос должен был министр внутренних дел, но он, в свою очередь, представил его на «всемилостивейшее воззрение» царя.
Александр II обывательскую просьбу отклонил, так как счел достаточным нахождение в сквере обелиска «Румянцова победам», по которому его официально и нарекли…
А десятью годами позднее Румянцевского сквера (кстати, василеостровские старожилы и сейчас зовут его Соловьевским!) появился в столице еще один сквер, созданный на средства другого петербургского купца – Осии Михайловича Тупикова.
«По ходатайству купца Тупикова об устройстве сквера на Никольской улице собрание городской Думы постановило: устройство сквера… на его счет, с отдачею в его распоряжение снятого с площади, принадлежащего городу булыжного камня и с принятием на счет города содержания сквера в размере 600 руб. в год, допустить только с тем условием, чтобы сквер был обнесен Тупиковым на собственный счет железною решеткою».
Как видим, ни одна сторона не хотела и на добром деле упустить своей выгоды… Впрочем, к расходам наш купец привлек своего брата, имя которого, кажется, затерялось в истории. Вдвоем они успешно завершили главные работы, и «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и полиции» оповестили петербуржцев о состоявшемся 13 октября 1874 года торжественном открытии и освящении «вновь устроенного Никольского сквера». Приглашенной на торжество публике, среди которой был даже сам градоначальник Ф.Ф. Трепов, выпала честь посадить там деревья.
«Есть теперь уголок, где детям можно порезвиться и отдохнуть под сенью дерев», – благодарил «за почин» почему-то Трепова, а не братьев Тупиковых о. Александр, священник Никольского собора. Зато осчастливил братьев «своей монаршей благодарностью и изъявлением монаршего своего удовольствия» государь, посетивший сквер в августе 1875 года. (Это я повторяю слова газеты «Новое время» – с такими вот «приседаниями» было принято тогда писать в подобных случаях.)
Между прочим, царское то благоволение подвигло к действиям владельца одного из домов по соседству с новым сквером, некоего Н.Я. Фохтса. Уже упоминавшееся «Новое время» вскоре сообщило, что вызвался он на свои средства украсить Никольский сквер двумя фонтанами: «каждый фонтан состоит из одной детской фигуры и восьми лягушек, расположенных кругом».
О том, что Фохтс свое обещание выполнил, мы могли судить по сохранившимся в сквере двум каменным фонтанным чашам. Многие годы они были пусты, а не так давно фонтаны восстановили.
Наш же снимок относится к 1908 году, когда в Никольском сквере открывали памятник морякам броненосца «Император Александр III», погибшим в Цусимском сражении.
Ночь, улица, фонарь…
«Масло у фонарщиков в кашу идет…»
Фотография первых лет прошлого века приглашает нас на перекресток Шпалерной и Гагаринской улиц. Силуэт фонаря четко рисуется на фоне неба…
Когда белые ночи, при которых в 1703 году начинала строиться новая столица, сменились темными, Петр повелел всем ее обитателям, по иноземному обычаю, носить с собою фонари. Это правило оставалось в силе еще долго – один из сенатских указов 1745 года требовал: «А без фонарей… по ночам отнюдь никому не ходить».
Это вовсе не значит, что до середины века фонарей в Петербурге не имелось: уже в 1718 году несколько стационарных фонарей поставили у Зимнего дворца и Адмиралтейства. Изготовили их на Ямбургских заводах Меншикова «по образцу», составленному столичным «генерал-архитектором» Леблоном. Но Петру хотелось осветить всю столицу. Генерал-полицеймейстер Девиер писал в Сенат, что потребно для того 895 фонарей, кои обойдутся в 7013 рублей, да конопляного масла на 7836 рублей, да фонарщиков из расчета один на 15 фонарей, с «обмундированием», состоящим из лестницы, ручного фонаря, лядунки, щипцов, ножа, кувшина, губки, щетки и мерки…
Расход оказался велик, и Сенат порешил главную часть средств взять с обывателей, а остальное восполнить деньгами от сборов с постоялых дворов, хомутного сбора и других городских доходов. («Фонарная повинность» была сложена с петербуржцев только в феврале 1802 года, «высочайшим дозволением» Александра I.)
Вот так, в декабре 1723 года Петербург в законодательном порядке получил уличное освещение – раньше, чем многие старые города Европы. В своем двадцатилетнем возрасте он обогнал и Бирмингем, и Нант, и Страсбург, где граждане по вечерам брели в потемках.
А в 1788 году на улицах новой столицы горело уже 2745 фонарей. Больше всего – 2008 – было их в трех Адмиралтейских частях (на пространстве от нынешних Адмиралтейских верфей до Фонтанки и от Большой Невы до Мойки). Эти данные приводятся в документе об отдаче уличного освещения в частные руки – до той поры им занимались городские власти с полицией.
Известны имена и первых подрядчиков, которые шестнадцать лет заправляли городским светом: купцы Нестеров и Михайлов. Был им определен осветительный сезон с 1 августа по 22 апреля; указано, что «горение должно происходить… от сумерек до трех часов заполночь во все темные ночи, кроме лунных».
Столичные жители стали жаловаться: фонари дают слабый свет, так что «от одного к другому великая темнота», да раньше времени их гасят, а некоторые вообще не зажигают, «посредством же темноты производятся удобно грабеж и другие неустройства»…
Может, эта необязательность Нестерова с Михайловым была одной из тех причин, что заставили власти в 1804 году выбрать новых подрядчиков. Другая же состояла в том, что некий иностранец Леонард Отье предложил свою систему масляного фонаря, с «отражательными щитами» – рефлекторами. И товарищество из пятерых купцов во главе с Гребелкиным взялось заменить на фонари Отье часть старых. История не донесла сведений, удалось ли Гребелкину со товарищи исполнить свою задачу. Но зато известно, что горожане по-прежнему оставались недовольны качеством уличного освещения, они даже уверяли, что «масло у фонарщиков в кашу идет». Так что в 1808 году столичный свет вновь перешел в ведение полиции: была образована специальная фонарная команда из двухсот человек.
…Масляные фонари – помните их описание у Гоголя, в его «Невском проспекте»? – горели на петербургских улицах почти полтора века, до 1862 года. Но уже делались попытки найти и новые способы освещения. Так, еще в 1854 году были затеяны опыты по применению хлебного спирта, смешанного со скипидаром. Первые спиртовые фонари появились тогда на Исаакиевской площади и Владимирском, Загородном и Литейном проспектах. Через четыре года их было в столице 4426, больше половины из всех имеющихся тогда.
Однако при обсуждении результатов нововведения Городская дума отметила, что данный способ слишком дорог, освещение дает неудовлетворительное, да еще сопряжен с «хищением осветительных материалов». Так что спиртовым фонарям выпало исчезнуть вместе с масляными…
А у нас в столице – «гас»
…Трещало и плевалось брызгами масло в уличных фонарях, и столичным обывателям казалось, что так и жить им вечно при тусклом свете. Но однажды прошел слух, что некие «ученые частные люди», г-да Соболевский и Горрер, придумали и применили прибор для добывания «светильного гаса». Произошло это, по разным источникам, в 1811-м или 1812 году.
В дом Соболевского, как писала потом «Северная пчела» (не указав адреса), началось паломничество любопытствующих петербуржцев. Все были восхищены тем, что в необыкновенных «термолампах» огонь, будучи зажжен однажды, продолжает гореть, доколе в запасе есть газ, и не производит искр, а значит, не грозит пожаром…
Упомянутые «ученые частные люди», конечно, не были первооткрывателями нового способа освещения: в Европе опыты со светильным газом шли уже давно, но секрет его получения тщательно оберегался. Соболевский же с соратником из своего изобретения тайны не делали. Они даже опубликовали в «Северной пчеле» «все подробности о своем способе получения газа – в надежде найти средства «на перевод опытов в практику». Но нет пророков в своем отечестве…
Для устройства газового освещения в Петербург позвали иностранцев. Однако раньше, чем на петербургских улицах, появилось оно в других местах. В 1817 году, по словам «Северной пчелы», осветили газом Александровскую мануфактуру, почти одновременно Петергофскую бумажную фабрику. А 16 февраля 1821 года газовые лампы загорелись в первых двенадцати комнатах в здании Главного штаба. Английский мастер Гриффит обещал, что в скором времени газовые лампы будут гореть во всех помещениях Штаба… Следом заменили свечи на газ некоторые модные магазины на Невском.
«Сообщаем известие, – писала та же «Северная пчела» в сентябре 1836 года, – о закладке здания для гасопроизводителя, происходившей 19-го числа текущего месяца… На берегу Мойки, близ дворцового Экзерциргауза и одним фасом к зданию Министерства иностранных дел ровно в полдень положен краеугольный камень…» Газета обещала читателям, что «в будущем году вся первая Адмиралтейская часть… на пространстве от Полицейского моста до Вознесенского, также Невский проспект до Императорской Публичной библиотеки… заблестят и осветятся яркими огнями, а там и другие части города, постепенно, одна за другою, обольются чистым светом горящего гаса».
Только по какой-то причине Общество по устройству освещения газом, затеявшее упомянутое строительство, планы свои переменило и решило строить «гасометр» – газовый завод – не на Мойке, а на Обводном канале.
Его здание характерного силуэта сохранилось и до сей поры – на этом, еще довоенном, снимке оно легко узнается. И даже теперь старожилы зовут его газовым заводом, хотя кто только не занимал его в последние годы.
Так что ждать нового света петербуржцам пришлось дольше, нежели было обещано. Он зажегся в столице только в 1839 году.
«С сего дня 30-го августа, – это опять информация из «Северной пчелы», – начнутся опыты освещения улиц посредством гаса в тех местах, где находятся устроенные для того фонари. Опыты сии имеют целию необходимое приспособление всего механизма заведения к практическому действию».
И вот: «Сегодня, 16-го июня, открыт для публики Исаакиевский сквер». Однако петербуржцы, прочитавшие это сообщение, были разочарованы: оказалось, оповестившая об открытии сквера «Северная пчела» полетела впереди событий. Пришлось ей давать поправку: «Предположенное вчера открытие для публики Исаакиевского сквера отложено на несколько дней». Но открыли его только 19 июля и сразу от Министерства путей сообщения передали городу. В июле же Александр II высочайше повелел именовать новый сквер Исаакиевским. Представлял тот собою правильный четырехугольник с дорожками и газонами, правда, без обещанных цветочного киоска и фонтана. Окружала его красивая решетка с пятью калитками. Снаружи шли «плитные» тротуары с торцовыми переходами к соседним домам. Уже через четыре года, по словам «Русского инвалида», сквер «потерял свой пустынный грустный характер», превратившись в «молодой зеленистый сад». Его стали считать одним из украшений столицы, там всегда было много гуляющих, дети играли в песке…
Летом 1865 года старшина петербургских личных дворян и почетных граждан Н.Д. Быков взял на себя работы по благоустройству сквера. Он докладывал Думе, сколько посадил там новых деревьев и кустов и каких пород, сколько привез песка «парголовского, так как крупный и не дает пыли, для игры детей удобен и здоров, как о том утверждают многие доктора». Эти быковские деревья и вызвали потом на свет проблему, которую по обыкновению несколько лет решали городские власти, пока, наконец, не покончили с ней.
А суть дела была в следующем. Весной 1908 года градоначальник Д.В. Драчевский писал городскому голове Н.А. Резцову: «Исаакиевский собор составляет безусловно выдающийся исторический памятник блестящей эпохи минувших царствований… К сожалению, от храма не получается цельности подобающего ему художественного впечатления, так как он закрыт от зрителей разросшимися деревьями сквера… Деревья в нем растут как в лесу».
Драчевский потребовал их вырубить, устроить в сквере цветник и даже не пожалел на то имеющиеся в его личном градоначальническом фонде деньги.
Голова сообщил об этом требовании Управе и Думе. Те возразили, что в свое время поручали Быкову посадку деревьев не просто так, а выполняя повеление Александра II, который обратил внимание на «недостаточность их числа». «Имелось в виду предоставить публике тенистое место для отдыха и прогулки». Так что, посчитали думцы с управцами, сад как нельзя лучше отвечает назначенным целям «с практической стороны». Кроме того, деревья закрывают собор всего каких-то четыре месяца в году, и при том что в городе и так «бедно с растительностью», стоит ли еще и уничтожать ее сознательно…
Но от градоначальника и в 1909–1910 годах продолжали поступать те же требовательные послания. В Думе их или игнорировали или вяло обсуждали. Сопротивление думцев поддержала общественность. В журнале «Зодчий» в 1910 году опубликовали несколько заметок в защиту существующего сквера…
Но все они были обречены на поражение.
«Вырубили Исаакиевский сквер», – печально констатировала «Русская художественная летопись» в ноябре 1912 года. Официально это называлось переустройством. Уничтожили не только деревья, но и старые чугунные шопеновские решетки, заменив их ограждением из железных труб. Зато Исаакиевский собор стал виден от самого Мариинского дворца, о чем свидетельствует снимок, сделанный в том же самом 1912-м…
Иждивением купцов
«На площади противу нового Михайловского дворца устроивается род Лондонского сквера (square). Обширное пространство окружено красивою чугунною решеткою, а в средине делаются дорожки и будут посажены деревья…»
Такую информацию напечатали в «Северной пчеле» в сентябре 1827 года. Из нее можно понять, что устраиваемый «род Лондонского сквера» был в новинку для северной столицы, недаром газета дала в скобочках, на всякий случай, пояснение по-английски.
Но спустя время скверы один за другим появляются на петербургских площадях. И что интересно, разбиваются они не только стараниями городских властей, но и иждивением, как тогда выражались, отдельных столичных обывателей.
Так, содержателю цирка на Фонтанке Гаэтано Чинизелли обязаны мы сквером на Манежной площади. Правда, то были, так сказать, труды поневоле: Чинизелли просто выполнил обязательное условие, выставленное городом при переводе его цирка с Манежной на новое место.
Но вот два случая совсем другого свойства.
Жительствовал на Васильевском острове купец Степан Федорович Соловьев, который был не только удачливым коммерсантом, но и щедрым благотворителем. Известно, например, что именно по его инициативе организовали сбор денег в помощь городам, пострадавшим от пожаров, и Соловьев стал «одним из главных и ревностных исполнителей этого дела».
А в попечении о василеостровских «недостаточных» детях, которым негде было погулять, он пожертвовал 100 000 рублей на устройство сквера по соседству с Академией художеств, на замощенной булыжником площади, единственным украшением коей являлся Румянцевский обелиск, перенесенный сюда в 1818 году.
Новый сквер был совершенно готов к 1867 году. Вокруг него установили газовые фонари; в самом сквере Степан Федорович позаботился организовать недорогой буфет для гуляющих – «с продажею чая, кофе, молока, яиц всмятку, мороженого, лимонада «газес» и обыкновенного»…
Благодарные василеостровцы между собой быстро присвоили новому скверу именование Соловьевского и даже просили о разрешении установить там бюст своего благодетеля. В 1867 году их ходатайство рассмотрели на заседании Думы, его поддержали гласные и направили по инстанции на утверждение. Решать сей вопрос должен был министр внутренних дел, но он, в свою очередь, представил его на «всемилостивейшее воззрение» царя.
Александр II обывательскую просьбу отклонил, так как счел достаточным нахождение в сквере обелиска «Румянцова победам», по которому его официально и нарекли…
А десятью годами позднее Румянцевского сквера (кстати, василеостровские старожилы и сейчас зовут его Соловьевским!) появился в столице еще один сквер, созданный на средства другого петербургского купца – Осии Михайловича Тупикова.
«По ходатайству купца Тупикова об устройстве сквера на Никольской улице собрание городской Думы постановило: устройство сквера… на его счет, с отдачею в его распоряжение снятого с площади, принадлежащего городу булыжного камня и с принятием на счет города содержания сквера в размере 600 руб. в год, допустить только с тем условием, чтобы сквер был обнесен Тупиковым на собственный счет железною решеткою».
Как видим, ни одна сторона не хотела и на добром деле упустить своей выгоды… Впрочем, к расходам наш купец привлек своего брата, имя которого, кажется, затерялось в истории. Вдвоем они успешно завершили главные работы, и «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и полиции» оповестили петербуржцев о состоявшемся 13 октября 1874 года торжественном открытии и освящении «вновь устроенного Никольского сквера». Приглашенной на торжество публике, среди которой был даже сам градоначальник Ф.Ф. Трепов, выпала честь посадить там деревья.
«Есть теперь уголок, где детям можно порезвиться и отдохнуть под сенью дерев», – благодарил «за почин» почему-то Трепова, а не братьев Тупиковых о. Александр, священник Никольского собора. Зато осчастливил братьев «своей монаршей благодарностью и изъявлением монаршего своего удовольствия» государь, посетивший сквер в августе 1875 года. (Это я повторяю слова газеты «Новое время» – с такими вот «приседаниями» было принято тогда писать в подобных случаях.)
Между прочим, царское то благоволение подвигло к действиям владельца одного из домов по соседству с новым сквером, некоего Н.Я. Фохтса. Уже упоминавшееся «Новое время» вскоре сообщило, что вызвался он на свои средства украсить Никольский сквер двумя фонтанами: «каждый фонтан состоит из одной детской фигуры и восьми лягушек, расположенных кругом».
О том, что Фохтс свое обещание выполнил, мы могли судить по сохранившимся в сквере двум каменным фонтанным чашам. Многие годы они были пусты, а не так давно фонтаны восстановили.
Наш же снимок относится к 1908 году, когда в Никольском сквере открывали памятник морякам броненосца «Император Александр III», погибшим в Цусимском сражении.
Ночь, улица, фонарь…
«Масло у фонарщиков в кашу идет…»
Фотография первых лет прошлого века приглашает нас на перекресток Шпалерной и Гагаринской улиц. Силуэт фонаря четко рисуется на фоне неба…
Когда белые ночи, при которых в 1703 году начинала строиться новая столица, сменились темными, Петр повелел всем ее обитателям, по иноземному обычаю, носить с собою фонари. Это правило оставалось в силе еще долго – один из сенатских указов 1745 года требовал: «А без фонарей… по ночам отнюдь никому не ходить».
Это вовсе не значит, что до середины века фонарей в Петербурге не имелось: уже в 1718 году несколько стационарных фонарей поставили у Зимнего дворца и Адмиралтейства. Изготовили их на Ямбургских заводах Меншикова «по образцу», составленному столичным «генерал-архитектором» Леблоном. Но Петру хотелось осветить всю столицу. Генерал-полицеймейстер Девиер писал в Сенат, что потребно для того 895 фонарей, кои обойдутся в 7013 рублей, да конопляного масла на 7836 рублей, да фонарщиков из расчета один на 15 фонарей, с «обмундированием», состоящим из лестницы, ручного фонаря, лядунки, щипцов, ножа, кувшина, губки, щетки и мерки…
Расход оказался велик, и Сенат порешил главную часть средств взять с обывателей, а остальное восполнить деньгами от сборов с постоялых дворов, хомутного сбора и других городских доходов. («Фонарная повинность» была сложена с петербуржцев только в феврале 1802 года, «высочайшим дозволением» Александра I.)
Вот так, в декабре 1723 года Петербург в законодательном порядке получил уличное освещение – раньше, чем многие старые города Европы. В своем двадцатилетнем возрасте он обогнал и Бирмингем, и Нант, и Страсбург, где граждане по вечерам брели в потемках.
А в 1788 году на улицах новой столицы горело уже 2745 фонарей. Больше всего – 2008 – было их в трех Адмиралтейских частях (на пространстве от нынешних Адмиралтейских верфей до Фонтанки и от Большой Невы до Мойки). Эти данные приводятся в документе об отдаче уличного освещения в частные руки – до той поры им занимались городские власти с полицией.
Известны имена и первых подрядчиков, которые шестнадцать лет заправляли городским светом: купцы Нестеров и Михайлов. Был им определен осветительный сезон с 1 августа по 22 апреля; указано, что «горение должно происходить… от сумерек до трех часов заполночь во все темные ночи, кроме лунных».
Столичные жители стали жаловаться: фонари дают слабый свет, так что «от одного к другому великая темнота», да раньше времени их гасят, а некоторые вообще не зажигают, «посредством же темноты производятся удобно грабеж и другие неустройства»…
Может, эта необязательность Нестерова с Михайловым была одной из тех причин, что заставили власти в 1804 году выбрать новых подрядчиков. Другая же состояла в том, что некий иностранец Леонард Отье предложил свою систему масляного фонаря, с «отражательными щитами» – рефлекторами. И товарищество из пятерых купцов во главе с Гребелкиным взялось заменить на фонари Отье часть старых. История не донесла сведений, удалось ли Гребелкину со товарищи исполнить свою задачу. Но зато известно, что горожане по-прежнему оставались недовольны качеством уличного освещения, они даже уверяли, что «масло у фонарщиков в кашу идет». Так что в 1808 году столичный свет вновь перешел в ведение полиции: была образована специальная фонарная команда из двухсот человек.
…Масляные фонари – помните их описание у Гоголя, в его «Невском проспекте»? – горели на петербургских улицах почти полтора века, до 1862 года. Но уже делались попытки найти и новые способы освещения. Так, еще в 1854 году были затеяны опыты по применению хлебного спирта, смешанного со скипидаром. Первые спиртовые фонари появились тогда на Исаакиевской площади и Владимирском, Загородном и Литейном проспектах. Через четыре года их было в столице 4426, больше половины из всех имеющихся тогда.
Однако при обсуждении результатов нововведения Городская дума отметила, что данный способ слишком дорог, освещение дает неудовлетворительное, да еще сопряжен с «хищением осветительных материалов». Так что спиртовым фонарям выпало исчезнуть вместе с масляными…
А у нас в столице – «гас»
…Трещало и плевалось брызгами масло в уличных фонарях, и столичным обывателям казалось, что так и жить им вечно при тусклом свете. Но однажды прошел слух, что некие «ученые частные люди», г-да Соболевский и Горрер, придумали и применили прибор для добывания «светильного гаса». Произошло это, по разным источникам, в 1811-м или 1812 году.
В дом Соболевского, как писала потом «Северная пчела» (не указав адреса), началось паломничество любопытствующих петербуржцев. Все были восхищены тем, что в необыкновенных «термолампах» огонь, будучи зажжен однажды, продолжает гореть, доколе в запасе есть газ, и не производит искр, а значит, не грозит пожаром…
Упомянутые «ученые частные люди», конечно, не были первооткрывателями нового способа освещения: в Европе опыты со светильным газом шли уже давно, но секрет его получения тщательно оберегался. Соболевский же с соратником из своего изобретения тайны не делали. Они даже опубликовали в «Северной пчеле» «все подробности о своем способе получения газа – в надежде найти средства «на перевод опытов в практику». Но нет пророков в своем отечестве…
Для устройства газового освещения в Петербург позвали иностранцев. Однако раньше, чем на петербургских улицах, появилось оно в других местах. В 1817 году, по словам «Северной пчелы», осветили газом Александровскую мануфактуру, почти одновременно Петергофскую бумажную фабрику. А 16 февраля 1821 года газовые лампы загорелись в первых двенадцати комнатах в здании Главного штаба. Английский мастер Гриффит обещал, что в скором времени газовые лампы будут гореть во всех помещениях Штаба… Следом заменили свечи на газ некоторые модные магазины на Невском.
«Сообщаем известие, – писала та же «Северная пчела» в сентябре 1836 года, – о закладке здания для гасопроизводителя, происходившей 19-го числа текущего месяца… На берегу Мойки, близ дворцового Экзерциргауза и одним фасом к зданию Министерства иностранных дел ровно в полдень положен краеугольный камень…» Газета обещала читателям, что «в будущем году вся первая Адмиралтейская часть… на пространстве от Полицейского моста до Вознесенского, также Невский проспект до Императорской Публичной библиотеки… заблестят и осветятся яркими огнями, а там и другие части города, постепенно, одна за другою, обольются чистым светом горящего гаса».
Только по какой-то причине Общество по устройству освещения газом, затеявшее упомянутое строительство, планы свои переменило и решило строить «гасометр» – газовый завод – не на Мойке, а на Обводном канале.
Его здание характерного силуэта сохранилось и до сей поры – на этом, еще довоенном, снимке оно легко узнается. И даже теперь старожилы зовут его газовым заводом, хотя кто только не занимал его в последние годы.
Так что ждать нового света петербуржцам пришлось дольше, нежели было обещано. Он зажегся в столице только в 1839 году.
«С сего дня 30-го августа, – это опять информация из «Северной пчелы», – начнутся опыты освещения улиц посредством гаса в тех местах, где находятся устроенные для того фонари. Опыты сии имеют целию необходимое приспособление всего механизма заведения к практическому действию».