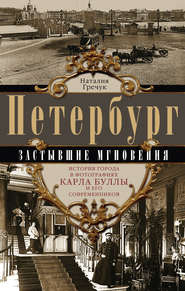По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О Литовском замке, что стоял у пересечения Мойки и Крюкова канала, многие горожане знают теперь только понаслышке. Тюрьма здесь существовала еще с елизаветинских времен – четыре отдельных здания «ведомства С.-Петербургской полиции». Городской землемер в своей справке для городской Думы в 1871 году утверждал, что они сооружены были в период между 1756 и 1777 годами. Замок же возвели при Екатерине, в 1780-е годы, и проектировал его знаменитый Иван Старов.
В тюремной судьбе Литовского замка было короткое время, когда в нем кипела «вольная» жизнь: в 1798 году, после некоторой перестройки, здесь разместился Литовский мушкетерский полк, от которого и осталось имя. Потом несколько лет квартировал в замковых казармах Гвардейский экипаж. Пока, наконец, весной 1823 года управляющий министерством внутренних дел граф В.П. Кочубей не вошел в Комитет министров с представлением о перестройке Литовских казарм опять в тюрьму «с проектом сего архитектора Шарлемана».
26 ноября 1825 года Литовский тюремный замок приняли «по описи» в ведение города. Последнее обстоятельство стало причиной многолетних споров столичных и центральных властей, кому нести расходы на ремонт. Говорили и о том, годится ли держать тюрьму в центре города. «Демонстрировать эти злобы жизни против двух императорских театров и вблизи дворцов великих князей, конечно, неуместно», – передавало «Новое время» в 1900 году слова одного из гласных на заседании Думы… Эти зафиксированные протокольно споры полезны тем, что помогают узнать многие подробности истории замка-тюрьмы.
Поначалу Литовская тюрьма оставалась обычной «срочной»: арестанты отбывали там назначенные сроки за свои преступления: кто за убийство, кто за грабеж, кто за прошение милостыни, кто за святотатство… 103 камеры были рассчитаны на 801 человека, причем «благородные» сидели в камерах на двоих. Даже тут «отнюдь не смешивали чиновных с чернью» и в «комфорте» отсидки, и в наказании за нарушение распорядка: простолюдина могли высечь розгами.
Потом профиль поменяли: в замке устроили «исправительное отделение» и женскую тюрьму. Посетивший его в январе 1886 года председатель совета по тюремным делам и член Государственного совета Любощинский остался в восторге от постановки дела: «Везде видны чистота и строгая дисциплина. Мастерские, в особенности ткацкая, производят впечатление благоустроенной фабрики; все изделия арестантов исполнены тщательно. На женском отделении обращает на себя внимание прачешная, вполне приспособленная для исполнения частных заказов, в которых нет недостатка».
И до самого февраля 1917 года они по-прежнему размещались в старом Литовском замке – городское исправительное арестантское отделение и женская тюрьма. Именно так сообщали о том и все столичные справочники, не упоминавшие однако, что во внутреннем дворе имелась еще и одиночная тюрьма. Специальное здание для нее возвели в период между 1905 и 1910 годами. Одновременно со зданием одиночки построили тогда и новое помещение для паровой прачечной, заказы на стирку от столичных учреждений и частных лиц поступали бесперебойно. Не простаивали и арестантки-швеи, особенно в годы Первой мировой войны, когда в тюремном замке работала военно-обмундировочная мастерская.
…В огне февраля 1917 года в самом деле сгорела вся «мерзость» тюрьмы. Жаль было лишь памятника зодчества. О том спохватились сразу же. Уже в начале марта, от пока еще не распущенной Городской думы исходит предложение восстановить замок, обратить его «на просветительные цели». Восстановления хотя бы внешнего, исторического его вида настойчиво требует и петроградское Общество архитекторов-художников, последний его призыв был опубликован за три дня до октябрьского переворота.
Затем уже в 1924 году руины замка по ходатайству Общества «Старый Петербург» осматривает специальная комиссия и постановляет: «Сохранить оставшиеся от обвала стены Литовского замка как имеющие историческое значение… В ближайшее время стены должны быть укреплены и частично реставрированы».
Развалины замка оставались на улице Декабристов еще десять лет. В начале 1930-х годов их снесли. На освободившемся месте сразу же стали строить жилые дома для судостроителей; осенью 1934 года квартиры уже стали заселяться.
А был-то – винный городок!
«Кресты» у нас поминаются часто: то в связи с «авторитетными» заключенными, то по поводу ужасных условий содержания, что гораздо существеннее… Тюрьма, конечно, заведение не курортное, однако «Кресты» столетней давности могли бы теперь кому-то показаться и раем…
Петербургская одиночная тюрьма – вот как когда-то называлась она официально.
«Это будет в полном смысле образцовая тюрьма, где заключенные арестанты получат не только все удобства, но даже и тот „комфорт“, который допускает наш гуманный век по отношению к лицам, отбывающим наказание за свои проступки и прегрешения», – писал «Петербургский листок» по случаю ее открытия 26 августа 1886 года. Ее заложили 20 июля 1884 года, автор проекта, академик архитектуры Антоний Томишко за образец взял Центральную тюрьму в Берлине.
Строительство вели на месте уже имевшейся тюрьмы, которая по мере развития работ сворачивала свое существование. Подрядчики, Воробьев и Синицын, как раз арестантов и привлекли к сносу старых строений. (Кстати, изначально, еще при Анне Иоанновне, эти строения предназначались для винных складов, почему и местность звалась Винный городок. Но в 1867 году академик архитектуры, он же директор Санкт-Петербургского тюремного комитета, В.П. Львов приспособил винные склады под тюрьму. Такая вот ирония судьбы…)
Торжество открытия новой тюрьмы, писал «Петербургский листок», состоялось в центре корпуса, где «сходятся четыре крыла здания, построенного в виде креста». (Отсюда и обиходное название!) Во все четыре стороны уходили радиусами длинные пролеты. «Администрация тюремная, как и мы с вами, читатель, стоя посреди, может созерцать все, что делается во всех четырех этажах тюрьмы». «Всякий пролет имеет с каждой стороны по 15 камер для одиночного заключения… В камерах чисто, просторно, воздуху хватит более чем для одного, меблировка хорошая. Здесь устраиваются мастерские: столярная, слесарная, переплетная, портняжная, сапожная. Для обучения ремеслам наняты особые мастера, так что приговоренные к высшей мере наказания – трем месяцам ареста – могут отсюда выйти ремесленниками…»
Тут следует пояснить, что «Кресты» назначались быть не просто одиночной тюрьмой, но и «краткосрочной», по крайней мере, поначалу: заключенные содержались там не более трех месяцев.
Строительство первого корпуса обошлось казне в 597 549 рублей и 35 копеек – вот так, не больше и не меньше! Сразу по открытии, он принял почти пятьсот заключенных. Но уже сооружалось еще одно здание с одиночными камерами, а также корпус на двести человек, «содержание которых в одиночных камерах признано будет опасным для здоровья». По поводу «вместимости» новой тюрьмы «Петербургский листок», впрочем, сокрушался: камер вроде бы и много, «но для Петербурга все же маловато»…
Отдельные здания предназначались для администрации, хозяйственной части, котельной, бани, больничных бараков и проживания тюремных служащих. Тюрьма получалась действительно образцовой…
В «Крестах», а после 1905 года особенно, отбывало заключение немало «политических». Некоторые из них оставили нам о том свои воспоминания.
Наверное, одним из первых по политическому делу попал туда Порфирий Павлович Инфантьев – осенью 1890 года. В своих заметках, которые он написал и опубликовал много времени спустя после знакомства с «Крестами», в 1907 году, Инфантьев утверждал, что тюрьма эта по устройству и условиям составляет просто-напросто «гордость нашего тюремного мира»! Недаром стоял внутри корпуса памятник Джону Говарду, по словам Инфантьева – «знаменитому английскому печальнику об улучшении тяжелой доли заключенных».
А вот Владимир Дмитриевич Набоков, один из лидеров кадетской партии и отец знаменитого писателя, свои заметки с выразительным названием «Тюремные досуги» сочинял прямо в одиночной камере «Крестов», где в 1908 году провел три месяца – с 14 мая по 14 августа. К такому наказанию его приговорили в числе ста восьмидесяти депутатов I-й Государственной думы за «Выборгское воззвание» – публичный протест против разгона думы.
В.Д. Набоков прибыл в «Кресты» на пролетке и, подъезжая, видел ее именно такой, какая она нашем снимке. Вез он с собой чемодан и баул, в которых были уложены три смены белья, плед, книги, продукты и даже складная резиновая ванна. В своей «келье» он застлал привезенной из дому салфеткой стол, попросил надзирателя принести еще один табурет, который тоже накрыл салфеткой, после чего разложил на нем свои вещи… На стене вывесил он распорядок дня, в нем обязательные каждый день гимнастика по Мюллеру и обливание водой в резиновой ванне… Свое время отведено было чтению и конспектированию книг, в том числе из тюремной библиотеки. А между делом писал Набоков эти самые «Досуги», в которых, размышляя о значении тюремного наказания в исправлении преступника, утверждал: тюрьма не может «воспитывать людей к добродетели»…
К мировому, в камеру…
В один из майских дней 1866 года в жизни Петербурга и петербуржцев произошло весьма знаменательное событие, о котором оповестила читателей среди других городских изданий и «Иллюстрированная газета». «17 мая, – сообщала она, – столичные мировые судьи приступили к исполнению своих обязанностей. Тот институт, о котором было сказано так много теоретических воззрений, который имеет немало противников, не верящих в его успех, и сторонников… стал наконец действительным фактом в нашей общественной жизни».
Как известно, в «общественной жизни» сосуществуют материи высокие и низкие. К последним можно отнести всякого рода противоправные действия: от драки и уворованного кошелька до убийства. Разбираться с ними традиционно положено было двум инстанциям – суду и полиции. И полиции доставались дела попроще, «маловажные», как определяло их гражданское законодательство середины XIX века: «Не превышающие удовлетворением 15 рублей серебром по убыткам и ущербам». Действовала она в таких случаях, можно сказать, на месте и «без всякого письменного производства».
Но реформатор Александр II решил внести изменения и в эту область, в частности введением института мировых судей, для разбора мелких гражданских и уголовных дел. Узаконено новшество было еще в ноябре 1864 года, однако Петербургу понадобилось полтора года, чтобы сделать его практикой.
Столицу разделили по этому случаю на тридцать участков, определили в каждый выбранного властями мирового судью, наняли для него помещение, сурово названное камерой, – и работа пошла!
Ежедневно перед мировым судьей проходили чередою карманники, мелкие мошенники, «нарушающие благочиние» хулиганы и пьяницы, скупщики краденого и т. д. и т. п.
Газета «Новое время» рассказывала об одном таком деле, когда повздорили две дамы и «надавали друг другу кукишей», что было квалифицировано как оскорбление действием…
Приговор мировой судья выносил немедленно и окончательно, штрафуя виновного на небольшую сумму или отправляя на отсидку. Поначалу отсидку отбывали в полицейском участке, а в 1880 году пришлось открыть на Переяславской улице (ныне – ул. Хохрякова) в Александро-Невской части специальный Арестный дом, что говорит только об одном: работы у мировых судей прибавилось. Городские власти даже вынуждены были несколько раз увеличивать число мировых участков, чтобы снизить нагрузку на судей. Только представьте себе – в 1899 году каждому из них пришлось разобрать в среднем 4200 дел! А в одном из докладов, что представили Городской думе в 1901 году, сообщался ужасный факт: пятеро судей «дослужились до злой чахотки»!
При этом два дня в неделю мировой судья еще заседал и в так называемом Мировом съезде – инстанции, разбирающей кассационные жалобы наказанных. Правда, полагались им надежные помощники – судебные приставы, которые осуществляли исполнение приговора: взыскивали штрафные суммы, выселяли неплативших за жилье и проч.
Жалованье у данных служителей Фемиды было не по труду малое, да и его, случалось, задерживали. Чаще страдали при этом приставы. К примеру, в 1874 году, по словам «Санкт-Петербургских ведомостей», «определенное законом содержание» им не выдавали несколько месяцев, из-за чего отряд приставов тогда значительно поредел…
Но что же собой представляла клиентура мирового судьи в социальном плане? Вопрос тоже интересный. Ответ на него можно найти, например, в отчете Арестного дома за 1900 год.
На отсидку туда попадало не одно лишь простонародье. Среди арестантов были и столичные художники, музыканты, репортеры, учителя, купцы и иностранные подданные.
Почетные граждане и дворяне – некая дочь действительного статского советника за появление на публике в нетрезвом виде отбывала там наказание 9 раз! Пребывание в Арестном доме было, как правило, недолгим, три-четыре дня, и начальство его сетовало, что для городских алкоголиков превратился он в комфортную ночлежку…
Что отмечалось с особенной печалью – больше половины арестантов и вообще попадающих на разбор в камеру мирового судьи составляли люди молодые. Были среди них и совсем юные правонарушители. Так что в начале 1909 года у гласных Городской думы – юристов по профессии – возникла идея учредить «особый мировой суд для малолетних» и назначить специального мирового судью, который бы работал в контакте с различными благотворительными обществами «с целью улучшения положения несовершеннолетних». В помощь такому судье предложили ввести институт «попечителей», они собирали бы сведения о подростках и присутствовали при разборе их дел в суде.
Гласные-юристы оказались людьми энергичными. «В Петербурге с 17 января начинает функционировать особый суд для малолетних, – сообщала в 1910 году «Петербургская газета». – Судьей для малолетних избран мировой судья Н.А. Окунев».
Николая Александровича Окунева вы и видите на нашем снимке. В чем провинилась стоящая перед ним компания? С чем от него выйдет?
Солдатушки, бравы ребятушки
«В Александровском зале Городской думы 15 октября открыло свои обычные ежегодные действия С.-Петербургское по воинской повинности присутствие. В текущем году призыву от гор. Петербурга подлежат 680 молодых людей. С 17 октября начнется жеребьевка в городском доме на Садовой, которая продлится до 25 октября. Медицинское освидетельствование начнется 29 октября». Такую вот информацию напечатали в газете «Новое время» за 16 октября 1908 года.
Жеребьевка? Но что мы вообще знаем о том, как призывали солдат в русскую армию в старые времена?
…Петру I наш лексикон обязан включением в него немецкого слова «рекрут», говоря современным языком, – «новобранец». Даже дата известна точно – 1705 год, когда для формирования армии царь ввел рекрутскую повинность. Он-то рассчитывал ставить под ружье всех годных к тому молодых людей, независимо от их происхождения, но кончилось дело тем, что служить в солдатах пришлось самым низшим сословиям, прежде всего крестьянам.
Рекрутчину отменил Александр II. По утвержденному им Уставу 1874 года «всякий мужчина по достижении двадцати одного года от роду» должен был отбывать воинскую повинность, независимо от сословия или состояния.
По сему случаю тогда же в столице появилось новое учреждение – Городское по воинской повинности присутствие, главными членами которого являлись городской голова, два думских гласных и по представителю от военных и полиции. Город был разделен на ряд призывных участков, к которым молодым людям шестнадцати лет и следовало приписаться. За уклонение полагался денежный штраф!
До собственно призыва им оставалось целых пять лет. Достаточно времени, чтобы проштудировать многочисленные «Справочные книжки», издававшиеся Присутствием, и запастись необходимыми документами для освобождения от службы, удостоверяющими, к примеру, что ты есть единственный сын или единственный кормилец в семье, единственный внук у деда с бабкой или же студент… Впрочем, студенты могли, не воспользовавшись отсрочкой, пойти в армию вольноопределяющимися. И смысл в том имелся: срок службы короче; род войск выбирали сами; была также возможность получить, пусть и низший, но офицерский чин. А доучиться можно было и после службы.
Весной и осенью в воинском Присутствии начиналась жаркая работа. Собирались из участков призывные списки, исключались из них «льготники». А поскольку число оставшихся было все равно больше потребного, получали они приглашения к «жеребью» – действию, напоминающему обыкновенную лотерею с колесом и билетами. И тут уж кому какое счастье выпадет!
Вытянувшие «повинный» жребий направлялись на врачебный осмотр. И тут снова происходил отсев: далеко не все призывники подходили по здоровью. В частности, «Инструкция по освидетельствованию телосложения и здоровья лиц, призываемых к исполнению воинской повинности», действовавшая в 1914 году, перечисляет восемьдесят восемь заболеваний, освобождавших от армии, в их числе даже расширение вен. А в ежегодных отчетах Присутствия почти буквально повторяются одни и те же жалобы на «неблагоприятное развитие нашего молодого поколения под влиянием столичной жизни и местных климатических условий». Отличались призывники среди прочего «не соответствующим росту объемом», малорослостью и слабостью зрения. Так, в 1877 году в столице из 1630 вытянувших жребий и осмотренных медкомиссией едва набрали 609 годных к службе. И ситуация та была, судя по отчетам, типичной.
Но все равно, мало кому удавалось совсем освободиться от службы в армии. (А ежели кто решался избежать призыва без уважительной на то причины, того ждала военная тюрьма, а то и каторжные работы.) Ведь если не зачисляли молодого человека в постоянные войска, так включали в число «ратников» – в государственное ополчение, своего рода запас на случай необходимости пополнить солдатские ряды, особенно в военное время.
Наш снимок как раз такую ситуацию и иллюстрирует: 1904 год, началась война с Японией, в Петербурге работает мобилизационная комиссия.
«…Телом и кровью, на поле и в крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление… От команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать…» – давали клятву солдаты, принимая присягу в те времена. Отцы-командиры говорили им, что текст этой присяги придумал еще сам Петр I. И упирали, конечно, больше на те слова в ней, которые говорят про верность государю императору, «истинному и природному».
В тюремной судьбе Литовского замка было короткое время, когда в нем кипела «вольная» жизнь: в 1798 году, после некоторой перестройки, здесь разместился Литовский мушкетерский полк, от которого и осталось имя. Потом несколько лет квартировал в замковых казармах Гвардейский экипаж. Пока, наконец, весной 1823 года управляющий министерством внутренних дел граф В.П. Кочубей не вошел в Комитет министров с представлением о перестройке Литовских казарм опять в тюрьму «с проектом сего архитектора Шарлемана».
26 ноября 1825 года Литовский тюремный замок приняли «по описи» в ведение города. Последнее обстоятельство стало причиной многолетних споров столичных и центральных властей, кому нести расходы на ремонт. Говорили и о том, годится ли держать тюрьму в центре города. «Демонстрировать эти злобы жизни против двух императорских театров и вблизи дворцов великих князей, конечно, неуместно», – передавало «Новое время» в 1900 году слова одного из гласных на заседании Думы… Эти зафиксированные протокольно споры полезны тем, что помогают узнать многие подробности истории замка-тюрьмы.
Поначалу Литовская тюрьма оставалась обычной «срочной»: арестанты отбывали там назначенные сроки за свои преступления: кто за убийство, кто за грабеж, кто за прошение милостыни, кто за святотатство… 103 камеры были рассчитаны на 801 человека, причем «благородные» сидели в камерах на двоих. Даже тут «отнюдь не смешивали чиновных с чернью» и в «комфорте» отсидки, и в наказании за нарушение распорядка: простолюдина могли высечь розгами.
Потом профиль поменяли: в замке устроили «исправительное отделение» и женскую тюрьму. Посетивший его в январе 1886 года председатель совета по тюремным делам и член Государственного совета Любощинский остался в восторге от постановки дела: «Везде видны чистота и строгая дисциплина. Мастерские, в особенности ткацкая, производят впечатление благоустроенной фабрики; все изделия арестантов исполнены тщательно. На женском отделении обращает на себя внимание прачешная, вполне приспособленная для исполнения частных заказов, в которых нет недостатка».
И до самого февраля 1917 года они по-прежнему размещались в старом Литовском замке – городское исправительное арестантское отделение и женская тюрьма. Именно так сообщали о том и все столичные справочники, не упоминавшие однако, что во внутреннем дворе имелась еще и одиночная тюрьма. Специальное здание для нее возвели в период между 1905 и 1910 годами. Одновременно со зданием одиночки построили тогда и новое помещение для паровой прачечной, заказы на стирку от столичных учреждений и частных лиц поступали бесперебойно. Не простаивали и арестантки-швеи, особенно в годы Первой мировой войны, когда в тюремном замке работала военно-обмундировочная мастерская.
…В огне февраля 1917 года в самом деле сгорела вся «мерзость» тюрьмы. Жаль было лишь памятника зодчества. О том спохватились сразу же. Уже в начале марта, от пока еще не распущенной Городской думы исходит предложение восстановить замок, обратить его «на просветительные цели». Восстановления хотя бы внешнего, исторического его вида настойчиво требует и петроградское Общество архитекторов-художников, последний его призыв был опубликован за три дня до октябрьского переворота.
Затем уже в 1924 году руины замка по ходатайству Общества «Старый Петербург» осматривает специальная комиссия и постановляет: «Сохранить оставшиеся от обвала стены Литовского замка как имеющие историческое значение… В ближайшее время стены должны быть укреплены и частично реставрированы».
Развалины замка оставались на улице Декабристов еще десять лет. В начале 1930-х годов их снесли. На освободившемся месте сразу же стали строить жилые дома для судостроителей; осенью 1934 года квартиры уже стали заселяться.
А был-то – винный городок!
«Кресты» у нас поминаются часто: то в связи с «авторитетными» заключенными, то по поводу ужасных условий содержания, что гораздо существеннее… Тюрьма, конечно, заведение не курортное, однако «Кресты» столетней давности могли бы теперь кому-то показаться и раем…
Петербургская одиночная тюрьма – вот как когда-то называлась она официально.
«Это будет в полном смысле образцовая тюрьма, где заключенные арестанты получат не только все удобства, но даже и тот „комфорт“, который допускает наш гуманный век по отношению к лицам, отбывающим наказание за свои проступки и прегрешения», – писал «Петербургский листок» по случаю ее открытия 26 августа 1886 года. Ее заложили 20 июля 1884 года, автор проекта, академик архитектуры Антоний Томишко за образец взял Центральную тюрьму в Берлине.
Строительство вели на месте уже имевшейся тюрьмы, которая по мере развития работ сворачивала свое существование. Подрядчики, Воробьев и Синицын, как раз арестантов и привлекли к сносу старых строений. (Кстати, изначально, еще при Анне Иоанновне, эти строения предназначались для винных складов, почему и местность звалась Винный городок. Но в 1867 году академик архитектуры, он же директор Санкт-Петербургского тюремного комитета, В.П. Львов приспособил винные склады под тюрьму. Такая вот ирония судьбы…)
Торжество открытия новой тюрьмы, писал «Петербургский листок», состоялось в центре корпуса, где «сходятся четыре крыла здания, построенного в виде креста». (Отсюда и обиходное название!) Во все четыре стороны уходили радиусами длинные пролеты. «Администрация тюремная, как и мы с вами, читатель, стоя посреди, может созерцать все, что делается во всех четырех этажах тюрьмы». «Всякий пролет имеет с каждой стороны по 15 камер для одиночного заключения… В камерах чисто, просторно, воздуху хватит более чем для одного, меблировка хорошая. Здесь устраиваются мастерские: столярная, слесарная, переплетная, портняжная, сапожная. Для обучения ремеслам наняты особые мастера, так что приговоренные к высшей мере наказания – трем месяцам ареста – могут отсюда выйти ремесленниками…»
Тут следует пояснить, что «Кресты» назначались быть не просто одиночной тюрьмой, но и «краткосрочной», по крайней мере, поначалу: заключенные содержались там не более трех месяцев.
Строительство первого корпуса обошлось казне в 597 549 рублей и 35 копеек – вот так, не больше и не меньше! Сразу по открытии, он принял почти пятьсот заключенных. Но уже сооружалось еще одно здание с одиночными камерами, а также корпус на двести человек, «содержание которых в одиночных камерах признано будет опасным для здоровья». По поводу «вместимости» новой тюрьмы «Петербургский листок», впрочем, сокрушался: камер вроде бы и много, «но для Петербурга все же маловато»…
Отдельные здания предназначались для администрации, хозяйственной части, котельной, бани, больничных бараков и проживания тюремных служащих. Тюрьма получалась действительно образцовой…
В «Крестах», а после 1905 года особенно, отбывало заключение немало «политических». Некоторые из них оставили нам о том свои воспоминания.
Наверное, одним из первых по политическому делу попал туда Порфирий Павлович Инфантьев – осенью 1890 года. В своих заметках, которые он написал и опубликовал много времени спустя после знакомства с «Крестами», в 1907 году, Инфантьев утверждал, что тюрьма эта по устройству и условиям составляет просто-напросто «гордость нашего тюремного мира»! Недаром стоял внутри корпуса памятник Джону Говарду, по словам Инфантьева – «знаменитому английскому печальнику об улучшении тяжелой доли заключенных».
А вот Владимир Дмитриевич Набоков, один из лидеров кадетской партии и отец знаменитого писателя, свои заметки с выразительным названием «Тюремные досуги» сочинял прямо в одиночной камере «Крестов», где в 1908 году провел три месяца – с 14 мая по 14 августа. К такому наказанию его приговорили в числе ста восьмидесяти депутатов I-й Государственной думы за «Выборгское воззвание» – публичный протест против разгона думы.
В.Д. Набоков прибыл в «Кресты» на пролетке и, подъезжая, видел ее именно такой, какая она нашем снимке. Вез он с собой чемодан и баул, в которых были уложены три смены белья, плед, книги, продукты и даже складная резиновая ванна. В своей «келье» он застлал привезенной из дому салфеткой стол, попросил надзирателя принести еще один табурет, который тоже накрыл салфеткой, после чего разложил на нем свои вещи… На стене вывесил он распорядок дня, в нем обязательные каждый день гимнастика по Мюллеру и обливание водой в резиновой ванне… Свое время отведено было чтению и конспектированию книг, в том числе из тюремной библиотеки. А между делом писал Набоков эти самые «Досуги», в которых, размышляя о значении тюремного наказания в исправлении преступника, утверждал: тюрьма не может «воспитывать людей к добродетели»…
К мировому, в камеру…
В один из майских дней 1866 года в жизни Петербурга и петербуржцев произошло весьма знаменательное событие, о котором оповестила читателей среди других городских изданий и «Иллюстрированная газета». «17 мая, – сообщала она, – столичные мировые судьи приступили к исполнению своих обязанностей. Тот институт, о котором было сказано так много теоретических воззрений, который имеет немало противников, не верящих в его успех, и сторонников… стал наконец действительным фактом в нашей общественной жизни».
Как известно, в «общественной жизни» сосуществуют материи высокие и низкие. К последним можно отнести всякого рода противоправные действия: от драки и уворованного кошелька до убийства. Разбираться с ними традиционно положено было двум инстанциям – суду и полиции. И полиции доставались дела попроще, «маловажные», как определяло их гражданское законодательство середины XIX века: «Не превышающие удовлетворением 15 рублей серебром по убыткам и ущербам». Действовала она в таких случаях, можно сказать, на месте и «без всякого письменного производства».
Но реформатор Александр II решил внести изменения и в эту область, в частности введением института мировых судей, для разбора мелких гражданских и уголовных дел. Узаконено новшество было еще в ноябре 1864 года, однако Петербургу понадобилось полтора года, чтобы сделать его практикой.
Столицу разделили по этому случаю на тридцать участков, определили в каждый выбранного властями мирового судью, наняли для него помещение, сурово названное камерой, – и работа пошла!
Ежедневно перед мировым судьей проходили чередою карманники, мелкие мошенники, «нарушающие благочиние» хулиганы и пьяницы, скупщики краденого и т. д. и т. п.
Газета «Новое время» рассказывала об одном таком деле, когда повздорили две дамы и «надавали друг другу кукишей», что было квалифицировано как оскорбление действием…
Приговор мировой судья выносил немедленно и окончательно, штрафуя виновного на небольшую сумму или отправляя на отсидку. Поначалу отсидку отбывали в полицейском участке, а в 1880 году пришлось открыть на Переяславской улице (ныне – ул. Хохрякова) в Александро-Невской части специальный Арестный дом, что говорит только об одном: работы у мировых судей прибавилось. Городские власти даже вынуждены были несколько раз увеличивать число мировых участков, чтобы снизить нагрузку на судей. Только представьте себе – в 1899 году каждому из них пришлось разобрать в среднем 4200 дел! А в одном из докладов, что представили Городской думе в 1901 году, сообщался ужасный факт: пятеро судей «дослужились до злой чахотки»!
При этом два дня в неделю мировой судья еще заседал и в так называемом Мировом съезде – инстанции, разбирающей кассационные жалобы наказанных. Правда, полагались им надежные помощники – судебные приставы, которые осуществляли исполнение приговора: взыскивали штрафные суммы, выселяли неплативших за жилье и проч.
Жалованье у данных служителей Фемиды было не по труду малое, да и его, случалось, задерживали. Чаще страдали при этом приставы. К примеру, в 1874 году, по словам «Санкт-Петербургских ведомостей», «определенное законом содержание» им не выдавали несколько месяцев, из-за чего отряд приставов тогда значительно поредел…
Но что же собой представляла клиентура мирового судьи в социальном плане? Вопрос тоже интересный. Ответ на него можно найти, например, в отчете Арестного дома за 1900 год.
На отсидку туда попадало не одно лишь простонародье. Среди арестантов были и столичные художники, музыканты, репортеры, учителя, купцы и иностранные подданные.
Почетные граждане и дворяне – некая дочь действительного статского советника за появление на публике в нетрезвом виде отбывала там наказание 9 раз! Пребывание в Арестном доме было, как правило, недолгим, три-четыре дня, и начальство его сетовало, что для городских алкоголиков превратился он в комфортную ночлежку…
Что отмечалось с особенной печалью – больше половины арестантов и вообще попадающих на разбор в камеру мирового судьи составляли люди молодые. Были среди них и совсем юные правонарушители. Так что в начале 1909 года у гласных Городской думы – юристов по профессии – возникла идея учредить «особый мировой суд для малолетних» и назначить специального мирового судью, который бы работал в контакте с различными благотворительными обществами «с целью улучшения положения несовершеннолетних». В помощь такому судье предложили ввести институт «попечителей», они собирали бы сведения о подростках и присутствовали при разборе их дел в суде.
Гласные-юристы оказались людьми энергичными. «В Петербурге с 17 января начинает функционировать особый суд для малолетних, – сообщала в 1910 году «Петербургская газета». – Судьей для малолетних избран мировой судья Н.А. Окунев».
Николая Александровича Окунева вы и видите на нашем снимке. В чем провинилась стоящая перед ним компания? С чем от него выйдет?
Солдатушки, бравы ребятушки
«В Александровском зале Городской думы 15 октября открыло свои обычные ежегодные действия С.-Петербургское по воинской повинности присутствие. В текущем году призыву от гор. Петербурга подлежат 680 молодых людей. С 17 октября начнется жеребьевка в городском доме на Садовой, которая продлится до 25 октября. Медицинское освидетельствование начнется 29 октября». Такую вот информацию напечатали в газете «Новое время» за 16 октября 1908 года.
Жеребьевка? Но что мы вообще знаем о том, как призывали солдат в русскую армию в старые времена?
…Петру I наш лексикон обязан включением в него немецкого слова «рекрут», говоря современным языком, – «новобранец». Даже дата известна точно – 1705 год, когда для формирования армии царь ввел рекрутскую повинность. Он-то рассчитывал ставить под ружье всех годных к тому молодых людей, независимо от их происхождения, но кончилось дело тем, что служить в солдатах пришлось самым низшим сословиям, прежде всего крестьянам.
Рекрутчину отменил Александр II. По утвержденному им Уставу 1874 года «всякий мужчина по достижении двадцати одного года от роду» должен был отбывать воинскую повинность, независимо от сословия или состояния.
По сему случаю тогда же в столице появилось новое учреждение – Городское по воинской повинности присутствие, главными членами которого являлись городской голова, два думских гласных и по представителю от военных и полиции. Город был разделен на ряд призывных участков, к которым молодым людям шестнадцати лет и следовало приписаться. За уклонение полагался денежный штраф!
До собственно призыва им оставалось целых пять лет. Достаточно времени, чтобы проштудировать многочисленные «Справочные книжки», издававшиеся Присутствием, и запастись необходимыми документами для освобождения от службы, удостоверяющими, к примеру, что ты есть единственный сын или единственный кормилец в семье, единственный внук у деда с бабкой или же студент… Впрочем, студенты могли, не воспользовавшись отсрочкой, пойти в армию вольноопределяющимися. И смысл в том имелся: срок службы короче; род войск выбирали сами; была также возможность получить, пусть и низший, но офицерский чин. А доучиться можно было и после службы.
Весной и осенью в воинском Присутствии начиналась жаркая работа. Собирались из участков призывные списки, исключались из них «льготники». А поскольку число оставшихся было все равно больше потребного, получали они приглашения к «жеребью» – действию, напоминающему обыкновенную лотерею с колесом и билетами. И тут уж кому какое счастье выпадет!
Вытянувшие «повинный» жребий направлялись на врачебный осмотр. И тут снова происходил отсев: далеко не все призывники подходили по здоровью. В частности, «Инструкция по освидетельствованию телосложения и здоровья лиц, призываемых к исполнению воинской повинности», действовавшая в 1914 году, перечисляет восемьдесят восемь заболеваний, освобождавших от армии, в их числе даже расширение вен. А в ежегодных отчетах Присутствия почти буквально повторяются одни и те же жалобы на «неблагоприятное развитие нашего молодого поколения под влиянием столичной жизни и местных климатических условий». Отличались призывники среди прочего «не соответствующим росту объемом», малорослостью и слабостью зрения. Так, в 1877 году в столице из 1630 вытянувших жребий и осмотренных медкомиссией едва набрали 609 годных к службе. И ситуация та была, судя по отчетам, типичной.
Но все равно, мало кому удавалось совсем освободиться от службы в армии. (А ежели кто решался избежать призыва без уважительной на то причины, того ждала военная тюрьма, а то и каторжные работы.) Ведь если не зачисляли молодого человека в постоянные войска, так включали в число «ратников» – в государственное ополчение, своего рода запас на случай необходимости пополнить солдатские ряды, особенно в военное время.
Наш снимок как раз такую ситуацию и иллюстрирует: 1904 год, началась война с Японией, в Петербурге работает мобилизационная комиссия.
«…Телом и кровью, на поле и в крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление… От команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать…» – давали клятву солдаты, принимая присягу в те времена. Отцы-командиры говорили им, что текст этой присяги придумал еще сам Петр I. И упирали, конечно, больше на те слова в ней, которые говорят про верность государю императору, «истинному и природному».