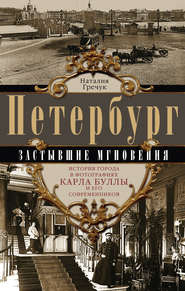По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако существовала еще и розница. По исследованию «Петербургского листка», продажа газет отдельными номерами появилась в нашем городе лишь в начале 1860-х годов и впервые – в поездах Николаевской железной дороги. А потом газетами в розницу стала торговать и книжная лавка Попова на Невском, рядом с Пассажем. Их пример дал толчок развитию розничной газетной торговли. Появились артели продавцов; своих «газетчиков»-разносчиков стали заводить и сами редакции. «Размножение мест, где можно запастись свежею газетою, без сомнения, должно быть отнесено к числу необходимейших потребностей столичной жизни». Тут, правда, имелась еще и другая корысть: розница повышала тиражи.
Бывало, что хлопотливая газетная жизнь, редакционная «кухня» прорывалась на публику совершенно неожиданными сценами. Можно себе представить, как дивился обыватель, раскрывший номер «Петербургской газеты» за 17 июля 1873 года: вторая и третья полосы напечатаны были «вверх ногами»!.. А как вам понравится такое письмо в весьма солидном «Новом времени»: «Спешу исправить невольную ошибку, вкравшуюся по моей вине в № 44-м уважаемой вашей газеты. Дело в том, что я, по поспешности, сообщил вам, что украдена шуба и разные золотые и серебряные вещи в доме Министерства двора, тогда как случай этот имел место вовсе не там, а в доме № 26 по Малой Итальянской улице. В доме же Министерства найден подкинутый младенец, мальчик семи дней».
Вот так, наверное, рождаются анекдоты… Хорошо, не последовало от министерства никаких «оргвыводов». Но зато сколько печаталось заметок о судебном преследовании редакторов газет!
Осенью 1886 года петербургский окружной суд приговорил редактора «Новостей» к трем месяцам тюрьмы, редактора «Петербургского листка» к штрафу в сто рублей, а их коллегу из «Живописного обозрения» к двухнедельному аресту на гауптвахте – за обвинение председателя правления Рязано-Козловской железной дороги Ададурова в различных должностных злоупотреблениях. Зато самому Ададурову с его связями удалось выкрутиться…
…А на снимке 1901 года перед вами газетная экспедиция «Нового времени». Для подписчиков экземпляр свежего номера складывался «бандеролью» – она как раз проходила в почтовый ящик на двери.
«Г-н Кан даст вам талию»
Этот хозяин ослика, встретившийся когда-то Карлу Булле на Дворцовой площади, подрабатывал, рекламируя по городу «Торг. домъ МОНОПОЛЬ» с Большого проспекта Петербургской стороны.
Надо сказать, у петербургских торговцев товарами и услугами испокон века было немало способов завлечения покупателя.
Самым старинным среди них оказывается газетная реклама. Пионером тут, естественно, были «Санкт-Петербургские ведомости» как первая столичная газета. Вот, к примеру, накануне нового 1731 года с ее помощью обыватели узнали, что у Иоанна Линдемана получены «хорошие свежие стратские Цитроны… которых каждый по изволению ящиками, сотнями, такожде и дюжинами по небольшой цене покупать может»…
А потом уж не было в городе газеты, которая бы обходилась без рекламы. Ее вставляли, как бы между прочим, даже в тогдашние «фельетоны» – недельные обозрения столичной жизни. Особенно любила делать это «Северная пчела» Фаддея Булгарина. Не жалела ни слов, ни эмоций. «Природа не дала вам талии; ступайте к г-ну Кану, он даст вам талию своей работы… Он исправен, не заставляет долго дожидаться, не берет лишнего, не старается выгадывать на сукне. Магазин его на Невском проспекте, на углу Малой Морской, в доме Коссиковского». И это – среди информации о погоде, бывших на неделе спектаклях, гуляньях и т. д. и т. п. Видно, г-н Кан дал Булгарину талию своей работы, не взяв за то не только лишнего, но и вообще ни копейки…
Наверное, как раз в «Северную пчелу» и метнула стрелу «Литературная газета» в 1848 году: «изумленный читатель… решительно не понимает, который же из модных магазинов лучше – один отличный, другой превосходный, третий наилучший, четвертый образцовый, пятый удивительный… После такой статьи отправляешься обыкновенно в первый попавшийся…»
Позже стали появляться новые формы рекламы.
На свет рождается сначала рекламный листок. Один из них, изданный в 1861 году, прославлял в частности каллиграфа Генриха Блокка, бравшегося за шесть часов занятий исправить желающему почерк. В листке приводились «свидетельства благодарности» от графа Сиверса, барона Фредерикса, барона Врангеля, вероятно, до блокковских уроков писавших коряво… Однако и «летучие листки», как и газетная реклама, были сочтены неэффективным средством: они «немедленно бросаются, большею частью без прочтения».
Первым, кто предложил в нашем городе устраивать для печатных объявлений специальные щиты, был известный книгоиздатель Адольф Плюшар. Мысль эта явилась у него в 1856 году, но Дума ходатайство отклонила, поскольку Плюшар желал иметь по этой части «привилегию», то есть быть свободным от конкурентов…
Однако идею Плюшара подхватили другие. В 1862 году в Думу поступило сразу несколько проектов устройства в столице «столбов и щитов для наклейки разных объявлений».
Среди авторов этих проектов был, между прочим, известный художник Михаил Микешин, предложивший делать как щиты «в изящных чугунных рамках, с украшениями», так и столбы, то есть тумбы – такого, впрочем, размера, чтобы в них невозможно было развернуть торговлю.
О чьем-то подобном проекте, как о деле решенном, газета «Голос» даже сообщила 13 января 1863 года. «По слухам», написала она, на улицах столицы должны скоро появиться столбы для наклейки объявлений на манер заграничных. В Париже внутри таких столбов устроены «несессеры» (автор не решился употребить грубое русское слово «нужники»), но «у нас столбы-будочки предполагается отдавать для мелкой торговли».
Но слухи остались слухами, так как Дума с Управой все не могли выработать условия контракта, по которым желающие могли бы взяться за дело. А ведь кто только потом не предлагал свои услуги! Капитанская жена Анна Колокольцева, варшавский купец Мазур, кандидат права Штерн, французский подданный Карл Сестер де Лаутереттен, германский подданный, прусский подданный, финляндский уроженец и т. д. и т. п. Они готовы были соорудить не простые щиты и тумбы, но с часами, фонарями, бесплатной питьевой водой и справочными указателями. И даже киоски, в которых можно было бы не только ознакомиться с объявлениями, но и купить газеты…
Однако только с 1880-х годов наконец-то разрешили аренду городских участков для организации службы объявлений.
Но вот кто оказался в этом деле необыкновенно предприимчив, так это некий Василий Андреевич Пташников. В 1906 году он взял в аренду «право эксплоатации» временных заборов вокруг ремонтировавшихся мостов – Полицейского, Михайловского, Пантелеймоновского, Введенского и Аларчина. Как можно «эксплоатировать» заборы? Смею предположить – отдавая их под объявления и рекламу. По крайней мере, площадь каждого из упомянутых заборов была точно исчислена, определена стоимость аренды за квадратную сажень, и всего в пользу города Пташников заплатил немалую сумму – 2690 рублей 25 копеек.
А что касается идеи устройства нужников-несессеров в рекламных киосках, то городская управа вернулась к ней через полвека, задумав в 1915 году установить их на петербургских улицах. Прогресс, правда, подсказал ей еще одно использование рекламных будочек – помещение в них общественного телефона. О чем поведал тогда «Архитектурно-художественный еженедельник».
Новое «искусство»?
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: «Henriette», «Basile», «Andre»
И пышные гроба: «Шумилов-старший»…
Это Анна Андреевна Ахматова нарисовала картинку старого Петербурга. Картинка точна, как фотография. Можно открыть суворинский «Весь Петербург» и найти: Шумилов-старший, Сергей Николаевич, гробовщик, Литейный, 52.
Теперь даже и не поверить, и не представить, что были времена, когда стены петербургских домов оставались чисты и свободны от вывесок. Это Елизавета Петровна, императрица, в октябре 1752 года повелела генерал-полицеймейстеру Алексею Татищеву потребовать от мастеровых, чтобы они устраивали свои заведения исключительно внутри дворов и на «знатных улицах» никаких «вывесок своих мастерств» не имели. Запрет этот сняла Екатерина II. Уже другому генерал-полицеймейстеру, Николаю Чичерину, указала: и по соседству с дворцом, и на прочих улицах вывески мастеровым разрешить, как прибитые к стене, так и висячие, написанные на досках или полотне «по пристойности». «Непристойными» сочтены были ею вывески на заведениях гробовщиков и продавцов «нижняго мужеска платья».
И с этого момента процесс пошел. Побывавший в Петербурге в середине XIX века французский писатель Теофиль Готье увидел и описал такой вот «пейзаж»: «Золотые буквы выводят свой рисунок на голубом фоне, выписываются на стеклах витрин, повторяются на каждой двери, не пропускают углов улиц, круглятся по аркам, тянутся вдоль карнизов, используют выступы подъездов, спускаются по лестницам подвалов, изыскивают все способы привлечь внимание прохожих».
Кстати, над тем, что бывало написано теми «золотыми буквами», посмеялся в одной из своих книг знаток истории Петербурга М.И. Пыляев: «Здесь бреют и крофьа творяют»…
Однако давайте обратим внимание на снимок. Архитектурный облик здания – особняка Юсуповой на Невском – едва просматривается за огромными щитами: «Магазин мебели», «Полная меблировка квартир», «Кинематограф Патэ», «Музей-паноптикум», «Виддер», «Керосин, свечи, лампы», «Галантерейный и игрушечный» и прочими.
Фотография этого особняка была представлена участникам IV съезда русских зодчих, в числе еще десятка других, как пример «нашего отечественного вывесочного искусства, махровый расцвет которого мы переживаем в настоящее время».
«Вандализм рекламы» – так назвали свой доклад на съезде его участники Е.Е. Баумгартен и Л.А. Ильин. «Невозможная, доведенная до бессмыслицы конкуренция, безразличие властей, падение архитектуры и уважения к ней масс, овечья кротость и равнодушие обывателя», равно как «никем не удерживаемая фантазия и изобретательность творцов вывесок и других реклам» – вот, по мнению докладчиков, причина того, что не осталось в Петербурге улиц «не обезображенных, иногда до полного затмения архитектуры».
Объяснялось все просто: на установку рекламы достаточно было разрешения одной лишь полицейской власти, которая смотрела единственно с цензурной точки зрения. Петербургские архитекторы и художники взывали: нужно охранять город от рекламного безвкусия, иначе «все, пожалуй, привыкнут и начнут считать это новым искусством»…
Интересный факт – старые вывески и после революции все еще оставались в нашем городе. Лишь в конце 1920 года газета «Жизнь искусства» сообщила, что в Петрограде началось «уничтожение наружных уличных эмблем прежнего капиталистического строя». (Она же отметила, однако, умных людей «из совета 2-го района», которые решили сохранить для истории рекламу, имеющую «художественное или бытовое значение».)
Так что, надо полагать, город некоторое время жил без вывесок – пока на смену старым не пришли новые. Свято место пусто не бывает…
«Для дворового обереганья»
Хозяин «местности»
«Запасные нижние чины, не моложе 25 лет от роду и ростом не ниже 2 арш. 6 верш., желающие поступить на службу в ГОРОДОВЫЕ С.-Петербургской столичной полиции на жалованье в 360 рублей в год, могут являться ежедневно от 9 час. до 10 час. дня к Начальнику Полицейского резерва, в здание Александро-Невской части (Гончарная, 6) с документами и аттестатами».
Это объявление в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства», видимо, прочел в свое время и городовой, запечатленный на снимке. Ростом он был уж точно не ниже 170 см, телосложение имел крепкое, здоровье хорошее, читать и писать наверняка умел… Взяв два рекомендательных письма от прежнего полкового начальства и вытащив из сундучка свидетельство об окончании трех классов земской школы, подал прошение на имя градоначальника: «Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие определить меня на названную должность…».
Прежде чем стать на пост на одной из столичных улиц, где и попался наш городовой на глаза фотографу, прошел он учебу в школе Полицейского резерва. Здесь его научили кому, как и при каких обстоятельствах отдавать честь, как вести себя с законопослушными обывателями и как с преступниками. Главное же, надо было раз и навсегда запомнить насчитывающий семь десятков пунктов список обязанностей, изложенных в специальной инструкции.
Инструкция эта определяла городового как «блюстителя порядка и благочиния, оберегающего личность и собственность каждого». Надзору его вверялась «определенная местность» – участок, в пределах которого он должен был знать все храмы, присутственные места, аптеки, больницы, родильные приюты, гостиницы и постоялые дворы, все улицы, все дома на них, с чердаками и подвалами, и дворы, с входами и выходами. И само собой разумеется, всех домовладельцев по фамилии, а дворников в лицо… Но особой трудности в том не было, поскольку на вверенном ему участке городовой и квартировал: иначе не полагалось. Жилье городовых, между прочим, оплачивалось из городского бюджета, а казна платила им жалованье и обмундировывала.
Городовой был в некотором смысле первым начальником на своей территории. От домовладельцев требовал, чтобы с дворов вовремя вывозился мусор. От дворников – чтобы те летом к пяти утра, а зимою к семи чисто подметали тротуары и по сезону либо поливали их водою от пыли, либо скалывали с них лед и посыпали песком. От жильцов – чтобы на балконах не сушились ковры и белье, а на подоконниках снаружи не стояли цветочные горшки, не дай бог, упадут!
Надо еще сказать, что функции, так сказать, современного участкового милиционера городовой совмещал с обязанностями постового. Дежуря на улице, он мог остановить дозволяющих себе слишком скорую езду, при большом движении транспорта помогал переходить дорогу женщинам, детям и престарелым (все это тоже регламентировалось соответствующими пунктами инструкции!). И выходил городовой на пост обязательно при всех имеющихся у него орденах и медалях…
Все столичные городовые были вооружены. У них имелся револьвер, казацкая нагайка и шашка драгунского образца. После памятных событий 1905 года выяснилась нужда в таком средстве защиты, как специальные доспехи.
Разработанный капитаном А.А. Чемерзиным «защитный панцирь» стал прообразом современного бронежилета. «Панцирь» испытали в 1906 году, и при стрельбе в него из трехлинейки, маузера, браунинга и нагана он показал хорошие качества. Но в ношении был не слишком удобен, да и дороговат для того, чтобы широко использоваться в полиции. Более пригодную («подвижный, вес 16–18 фунтов») конструкцию «панциря», по информации журнала «Вестник полиции», предложили полицмейстер 4-го отделения полковник В.Ф. Галле и командир полицейской роты капитан Задорновский. Изготавливать эти доспехи стали в мастерских Дома трудолюбия, что помещался на Обводном канале, 145…
Какой бы хлопотной ни была служба столичных городовых, а они очень держались за свое место и служили по многу лет. Уже упомянутый «Вестник полиции» поместил в 1908 году фотографии «служащих и поныне» Гавриила Семенова, поступившего в городовые в 1866 году, и Пуда Степанова, пришедшего на службу в 1871-м.
«Для дворового обереганья»
Герои этих двух старых снимков – дворник и швейцар, фигуры в любом городе, можно сказать, непременные. А в старом столичном Петербурге еще и значительные.
Дворнику даже посвящена специальная статья в «Русской энциклопедии», выходившей в начале прошлого века. Оказывается, они появились на Руси еще в XVI веке и назначены были «для дворового обереганья».