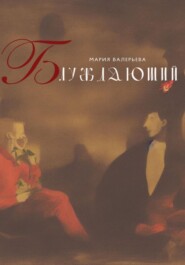По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Торговец отражений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Осборн не мог перестать думать о Ластвилле и описывать его в мыслях. Он терпеть не мог город, но оставался. Остался на лето, потому что не хотел торчать в Лондоне без Грейс, а больше ехать некуда: на музыке так и не заработал. Остался на зиму, потому что родители уезжали к родственникам, а они его не любили и постоянно над ним подшучивали. Остался на два с лишним года, хотя на первом курсе хотел отчисляться. Привык, прижился, закрыл глаза на многое и смирился бродить в сумерках. Терпел, потому что Грейс почему-то любила летаргический сон Ластвилля, из которого город не собирался выходить. Грейс почему-то всегда говорила, что судьба привела ее, что здесь она наконец обрела счастье. И Осборну хотелось думать, что Грейс говорила про него.
В автобусе они одни. Ехали, покачиваясь, и молчали. Автобус приехал пустой. Водитель даже удивился и спросил, почему студенты так поздно собираются на фестиваль, когда к часу дня уже обычно, радостные и хмельные, едут назад. Осборн хотел было съязвить, но промолчал. Отчего-то шутить не было настроения. Грейс ответила что-то милое, как и обычно, обрубила на корню. Умела она это, мастерски умела.
Они должны ехать недолго, но время в общей серости, казалось, увеличилось втрое. Грейс молчала, смотрела вперед, не моргая, и о чем-то думала. Лицо у нее напряженное, словно девушке приходилось терпеть головную боль, но одухотворенное. Осборн предложил таблетку, но Грейс покачала головой, почти незаметно. Осборн понял и больше не спрашивал. Она чем-то обеспокоена, не плохим, но и не хорошим. Это ощущалось. Осборну не нравилась ее встревоженность.
К моменту, как добрались до остановки, Осборну показалось, что прошел час. Голова, на улице чуть освободившаяся от тяжести, в дороге снова заболела. Он выпил сильное болеутоляющее, но таблетка не помогла.
Из автобуса он вышел первый и шлепнулся ногой в лужу. На джинсах появились новые пятна. Осборн тихо выругался, потряс ногой, сделал шаг вбок и подал руку Грейс. Она спустилась так аккуратно, что даже не коснулась воды.
– Слышишь? – прошептала Грейс, когда автобус отъехал.
– Что слышу? – Он понял, о чем говорила Грейс, но отчего-то не захотел называть.
– Поют! Слышишь? Кто-то поет.
– А, ты про эти приглушенные крики? – спросил Осборн, приподняв бровь.
– Это песни, а не крики. – Грейс улыбнулась.
– Скорее вопли.
– Так некоторые поют.
– Надеюсь, не все.
– Ты поешь лучше.
– Хорошо, что ты это сказала. Я начал переживать, – усмехнулся Осборн, но веселее ему не стало.
Грейс улыбнулась и взяла Осборна за руку. Парень улыбнулся.
Фестиваль на самом деле слышно. Слышно, наверное, с подъезда к Ластвиллю. Каждый зазывала, одевшийся на манер средневековых торговцев, кричал и приглашал к своей лавке. Каждый мало-мальский музыкант, который растерял остатки самоуважения, переоделся в менестреля, забыв, наверное, даже вытряхнуть прошлогоднюю пыль из карманов, и ходил среди посетителей: студентов, которым нечего делать в выходной, и туристов, что искали чего-то интересного не в том месте, тренькал на инструменте, часто ничем не напоминавший средневековый, и просил монетку на стаканчик эля. Лютни в дефиците и бронировать их приходилось за несколько месяцев до фестиваля, так что обходились укулеле, гитарами, барабанами и скрипками. Туристы все равно не заметят. Главное, чтобы громко и ярко.
Грейс шла чуть впереди и ничего не говорила. На фоне мрачных домов из темного кирпича, что не стали краше даже с украшениями, она казалась спустившимся на землю лучиком солнца.
– Ты так загадочно молчишь, – обратился к девушке Осборн, подпрыгнул, но все равно не обогнал.
– А я думаю, – заявила Грейс, не обернувшись.
– О чем думаешь?
– Если бы ты взял гитару, мог бы присоединиться, – медленно проговорила Грейс. Ее голос неровный, прыгал вместе с девушкой, которая спускалась по бугристой дороге к площади. Волосы прыгали следом, такие легкие, словно невесомые, и блестящие. Было бы на улице светло, Осборн ослеп от одного взгляда на них.
– Я лучше найду гильотину или попрошу топор поострее, – усмехнулся Осборн, отстававший от Грейс на полтора шага. После тяжелой ночи идти по такой дороге наказание. Мозг в голове, казалось, подпрыгивал вместе с Осборном и стукался о кости.
Грейс улыбнулась. Взглянула на него, кротко, быстро, как яркая вспышка, как блеснувший перед глазами огонек.
– А вдруг в толпе продюсер окажется? Заметил бы.
– Продюсер в Ластвилле? Это даже звучит смешно. Он, наверное, уже давно на пенсии или приехал к гильотине. Может, не слышал, что это бутафория.
– Гильотина настоящая, – усмехнулась Грейс. – А продюсер мог бы из интереса приехать. Мало ли. Надо использовать любую возможность.
– Думаешь, хороший продюсер оценит это? Можно ведь себе имидж одним плохим выступлением испортить. – Осборн улыбнулся.
– Зато из тебя бы сделали звезду.
– Звезду? Здесь? Вряд ли. Может, кого-то и есть отрывок секунд в двадцать, под который танцуют. Я такого пока не придумал.
– И что в этом плохого? Зато заработал бы пару монет. – Грейс явно улыбалась.
– Самоуважение я бы не выкупил, – утвердил Осборн, а потом словно засомневался, почесал голову и добавил. – Да и что мне сыграть? Не будет толпа радоваться очередному каверу на The Doors. Я даже не похож на Джима Моррисона.
– Ты мог бы сыграть как Осборн Грин.
– Не думаю, что толпа меня полюбит. Наверное, никогда не полюбит.
– А ты попробуй. Может, эта толпа немногим хуже той, которая была во всех клубах, где ты играл?
– В клубах хотя бы темно и можно петь свое.
– Но ты не пробовал.
– Я боюсь, что мои песни им не понравятся. Я пока не написал такого, что может понравиться.
– А Шеннон?
– Шеннон? Он ничего не пишет. Не хочу брать за него ответственность.
– Почему ты до сих пор с ним играешь? Ты же не хочешь.
– Не хочу. – Осборн задумался. – Не знаю. Не знаю, почему играю. Одному страшно.
Грейс усмехнулась.
– А дома сыграешь?
– Если захочешь.
– Обязательно захочу. Какую-то сопливую песенку о любви.
– Фу, Грейс! Ты что, Руби? – Улыбнулся Осборн.
– Я не буду выкладывать это в интернет, обещаю.
– Тогда сыграю. Но она будет грустная и длинная.
– То, что и нужно.