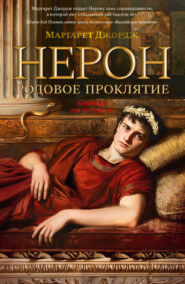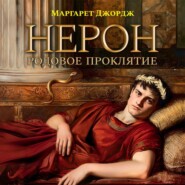По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Елизавета I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы нарисовали весьма яркую картину, – только и заметила я.
– Вспомните Ровоама, сына царя Соломона! Он потерял царство своего отца; оно было разделено надвое. На вас смотрит вся Англия! – взывал он ко мне.
– Да, она всегда на меня смотрела, с самого моего рождения, – отвечала я спокойно.
Из зала послышался ободряющий смех.
– Моя глубокая и искренняя любовь к вам, наша дражайшая и единственная государыня, побуждает меня сказать, что, если ваше величество не назначит престолонаследника при жизни, боюсь, это ляжет столь тяжким бременем на вашу душу и совесть… Да, в душе вашей будет твориться такой ад, что, когда вы умрете – а умрете вы неизбежно, – ваша благородная персона будет лежать на земле без погребения, прискорбное зрелище для всего мира…
– Представителю Вентворту нужно на свежий воздух. – Я сделала знак гвардейцам. – Выведите его, чтобы он мог перевести дух.
– Вы оставите по себе столь скверную память…
Его выпроводили, и в зале воцарилась гробовая тишина.
От меня требовалось нарушить эту тишину, переломить всеобщее настроение. И тем не менее я была вся в испарине, и не от приступа жара. «Лежать на земле без погребения…», «а умрете вы неизбежно…». Я откашлялась:
– Да, это будет почище даже «Тамерлана» Кристофера Марло. Ему бы на сцене играть.
Ничего более не потребовалось. По залу побежали смешки, и вопрос престолонаследия в очередной раз был замят. Я все решу так и тогда, как и когда сочту нужным.
Парламент заседал на протяжении всего Великого поста, и ненастная погода была под стать покаянным молитвам, читавшимся во время богослужений. Архиепископ Уитгифт любил Великий пост, дававший ему с его пристрастием к ритуалам старой церкви возможность безнаказанно потакать своим склонностям. Поздние рассветы и ранние сумерки требовали мерцания алтарных свечей. Погружение в глубины собственной совести взывало к покаянию и воздержанию; пост очищал душу. Освященное веками колесо церковного года вращалось медленно, и тому, кто вынужден был ограничивать себя во всем, шесть недель Великого поста могли и впрямь показаться бесконечно долгими.
Не было ни спектаклей, ни дворцовых празднеств, ни музыки, ни торжественных венчаний. Придворные убрали свои пышные наряды подальше, а многие и вовсе разъехались по своим поместьям.
Хотя пуритане не признавали церковный год, считая литургический календарь измышлением папистов, они жили так, будто держали Великий пост круглый год, и, будь их воля, заставили бы всю страну держать его вместе с ними. К счастью, в последнее время в результате ряда политических поражений их влияние ослабло, равно как и нажим на мое правительство, поэтому угроза навязывания нам реформированной религии наподобие какого-нибудь кальвинизма отступила.
Я находила утешение в старых ритуалах, хотя и не совершала их напоказ. В конце концов, я выросла на них, и они были для меня чем-то умиротворяюще знакомым. Мне нравилось произнесенное шепотом «Помни, человек, ты есть прах и в прах обратишься»[14 - Быт. 3: 19.], нравилось прикосновение большого пальца священника, пеплом чертящего крест у меня на лбу. Я не морщилась, слушая перечисление моих возможных прегрешений – недостаток милосердия, недостаток сострадания, тщеславие, самообман. Когда никто меня не видел, я надевала подаренную Эссексом в качестве напоминания о бренности жизни цепочку с черепом и порой, вытащив его из-за корсажа, вглядывалась в пустые глазницы. Когда я смотрела в зеркало на свое набеленное лицо и темные провалы глаз, я видела в них знакомые очертания. Череп под напудренной кожей угадывался слишком уж явственно.
Смерть постоянно присутствовала в моих мыслях, поскольку в Лондоне по-прежнему свирепствовала чума. Умерших было великое множество, и звон колоколов и негромкие заунывные крики «Выносите своих мертвых!» не прекращались. Я посылала в помощь выжившим еду и вещи, но остановить бедствия было сложно. Я приказала закрыть театры и запретить музыкальные представления на площади перед зданием биржи, чтобы уменьшить толпы и замедлить распространение болезни.
«И смерть забирает младых королев», – сказал один поэт. Пора моей молодости давным-давно миновала, и Вентворт лишь еще раз напомнил мне вслух о том, что я неминуемо умру. Кто-то воссядет на престоле после меня. И как же будут звать этого кого-то?
Некоторые полагали, что мне невыносима сама мысль о смерти, что я пытаюсь всеми силами отгородиться от любых напоминаний о ней, будто это поможет ее избежать. Но они ошибались относительно моих мотивов. Чего я старалась всеми силами избежать, так это переноса внимания с меня на моего преемника. Назвав его, я тем самым создам альтернативного правителя, того, к кому пойдут на поклон все недовольные моим правлением. А я окажусь не у дел. Я выразила это так: «Думаете, я стану вывешивать свой саван перед собственными глазами?» Из этого люди сделали вывод, что я страшусь могильного тлена, а не преждевременной политической смерти.
Престол должен был унаследовать Яков VI Шотландский. Мы все это знали. Но я не собиралась официально называть его имя. Он был единственным возможным претендентом, который отвечал нуждам Англии. Все прочие кандидаты были или иностранцами, или католиками, или совсем уж дальними родственниками. Очевидно, что наследовать будет Яков, так почему они никак не оставят меня в покое?
Я была не слишком высокого мнения о Якове, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. При всей своей скупости я тем не менее сочла разумным назначить Якову содержание – при условии, что он будет хорошо себя вести. В итоге он даже не пикнул, когда его мать казнили.
Поговаривали, что Яков человек со странностями, но каким еще он мог вырасти при таких-то родителях? Чудо, что он вообще не тронулся умом. Если он был педантом и имел склонность заводить фаворитов, это было не такой уж и большой ценой за то, что ему пришлось пережить. Я надеялась, что мои подданные примут его… когда-нибудь в отдаленном будущем.
Роберт Сесил принес мне отчеты о парламентских прениях. Он заседал в палате общин, а его отец – в палате лордов. Я едва не лишилась дара речи, узнав, что Фрэнсис Бэкон, человек Эссекса в палате общин, возражал против субсидий на борьбу с испанцами, во всеуслышание заявив, что не время их выделять.
Сэр Джордж Кэри здраво возразил ему, что испанцы уже послали в Англию сто сорок тысяч золотых эскудо – на подкуп знати, вдобавок к подкупу шотландцев.
– Королева намерена отправить флотилию под командованием сэра Фрэнсиса Дрейка, чтобы дать им отпор! – воскликнул он. – Неужто мы не выделим ей на это средства?
Бэкон поднялся и заявил, что страна не может позволить себе такие траты.
– Дворянам придется продать свое столовое серебро, а крестьянам – медные горшки.
Такой удар в спину ошеломил меня. Неужели он ставит интересы масс превыше интересов страны? И стоит ли за этим Эссекс? Ведь Фрэнсис Бэкон его человек и не может иметь собственных мотивов. Неужели его покровитель пытается подорвать мою власть, зарабатывая популярность у народа напрямую?
В конце концов его сопротивление было сломлено, и я получила свою субсидию. Но я не намеревалась забывать его выходку, и именно тогда в почву упали семена моего недоверия к Эссексу.
Теперь мне предстояло выступить перед парламентом с благодарственной речью. Я долго думала над словами. Хотя главный судья наших деяний – история, именно нужные слова убеждают людей позволить деяниям свершиться и овевают их славой. Мне хотелось, чтобы мои слова проникли в сердце каждого.
В день последнего заседания я вернулась в парламент полностью удовлетворенная тем, что собиралась сказать.
Был апрель, начало Страстной недели. В воздухе уже отчетливо пахло весной. Еще не распустившаяся листва одела ветви деревьев нежной дымчатой зеленью, заметной даже с реки, а фиалки придавали траве лиловый оттенок. Весла раз за разом погружались в бурлящую воду и, казалось, увлекали нас навстречу теплу.
Стоя перед членами палаты лордов, в то время как члены палаты общин слушали из-за дверей, с Хансдоном, лорд-канцлером, по правую руку и Бёрли, лорд-казначеем, по левую, я ждала, пока лорд – хранитель Большой печати заверял их в том, что «если бы казна ее величества не была пуста или она могла пополнить ее ценою личной жертвы, она не стала бы просить своих подданных и не приняла бы их средства, даже предложи они их добровольно».
– Заверяю вас в том, – поднявшись, обратилась я к собранию, – что вы делаете это для своего же собственного процветания в будущем, а не для меня. Многие монархи мудрее меня правили вами, и в их числе мой отец, с которым я не могу сравниться, – но не было среди них того, кто любил бы вас и пекся о вашем благе более меня.
Глядя на них, на их честные лица, обращенные ко мне, я ощутила прилив вдохновения, побудивший меня продолжать и предостеречь их от раздувания паники.
– Со своей стороны, клянусь, сердце мое никогда не ведало страха. В погоне за славой никогда не искала я приумножить земли, принадлежащие моей стране. Если я и отправляла мои войска, чтобы оборонить вас от неприятеля, то делала это для вашей защиты и для того, чтобы уберечь вас от опасности.
Они готовы были уже разразиться овациями, но мне необходимо было донести до них важное предостережение. Я взглядом заставила их утихнуть и продолжила:
– Я не хотела бы, чтобы вы разъехались по домам во всех уголках нашей страны и возбудили страх в сердцах моих подданных. Даже враги признают отвагу и решимость нашего народа. Предупредите людей лишь о том, чтобы были начеку и не дали застать себя врасплох. Тем они проявят доблесть и расстроят надежды неприятеля.
Серьезные лица передо мной были полны решимости.
– В заключение своей речи, – сказала я, – хочу заверить вас в том, что ни одно пенни из выделенной мне суммы не будет потрачено попусту. А теперь я должна выразить вам всем благодарность столь глубокую, какую только правитель может испытывать к своим верным подданным, и заверить вас в том, что я пекусь о вас денно и нощно, как не пекусь ни о чем более на этой бренной земле.
Я чувствовала затапливающую этот зал любовь; она перетекала между нами, крепкая и нерушимая. Я не подведу их, а они не подведут меня. Мы – единое целое.
24
Июль 1593 года
День выдался просто чудесный. Я совершила восхитительную прогулку верхом за пределы моего дворца в Гринвиче, а после возвращения меня ждал пикник на лужайке за дворцом. Эль, ягоды, сыр и свежайший ноздреватый хлеб – что может быть вкуснее?
Затем настал черед известий. Они пришли из Франции, через обоих Сесилов, отца и сына, как будто те страшились доложить их мне поодиночке.
Генрих IV Французский принял католическую веру. Чтобы взойти на престол, он предал свою совесть и склонил колени перед Римом. «Париж стоит мессы», – якобы заявил он.
– Его расчет оправдался, – сказал Бёрли.
Его усталый голос звучал лишь немногим громче шепота. В последнее время он редко выходил из дому; то, что сегодня он все же появился в моем дворце, о многом говорило.
– Париж наотрез отказывался принять его, а править Францией без Парижа невозможно. – (Вид у него был понурый, как у старого пса.) – Это, ваше величество, неоспоримый факт.
– Факт? Факт?! – не выдержала я. – Дыхание Господне! Свитуновы штаны! Разве человек не может подогнать или подправить факты? Неужели он не мог убедить Париж?
Произнося эти слова, я уже отдавала себе отчет в том, что вероятность этого была крайне мала.