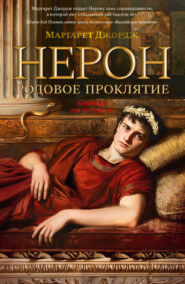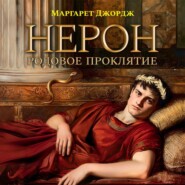По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Елизавета I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дороти же умудрилась навлечь на себя гнев королевы, выйдя замуж за сэра Томаса Перрота без ее высочайшего дозволения. Годы не смягчили королеву. Дороти смирилась с этим и, похоже, своей жизнью с Перротом была довольна, и хорошо, учитывая ту цену, которую она заплатила за их брак.
Одетая менее роскошно, чем сестра, она выглядела столь же ослепительно. Волосы у нее были светло-рыжие, а черты лица правильнее, чем у Пенелопы, чей нос, хоть и изящный, был несколько длинноват.
К сожалению, недавнее материнство нисколько не украсило Фрэнсис Уолсингем; про себя я всегда буду называть ее так и никогда – Фрэнсис Деверё. Внешность ее по-прежнему была настолько невыразительной, что ее сложно было описать. Как отличить одну ничем не примечательную женщину от тысяч других в точности таких же? Ее дочь от Филипа Сидни выглядела такой же бесцветной; если и была какая-то надежда, что с возрастом девочка станет более миловидной, то теперь она растаяла как дым. Вылитая мать. Ее сын от Роберта, мой внук Роберт, был очаровательный малыш, но ему едва исполнился годик, в этом возрасте все дети очаровательны. Я только надеялась, что внешность моего сына в итоге все-таки возьмет верх над невзрачностью Фрэнсис.
– Пора.
В зале появился домашний священник, очень серьезный молодой человек. Мы молча двинулись следом за ним в капеллу. Небо было затянуто облаками; ветви деревьев по-прежнему голы. Между каменными плитами, которыми была вымощена дорожка, хлюпала грязь.
Кристофер, шедший рядом, взял меня за руку. В это трудное время он был безучастным наблюдателем, не зная, как помочь мне пережить боль утраты. Я простилась с той частью моей жизни, которую вела до того, как мы с ним познакомились.
Мы вошли внутрь. День был пасмурный, и сквозь мутные оконца почти не просачивался свет. В полумраке белело надгробие; бросалась в глаза свежая надпись. Резчики только что закончили с эпитафией, и основание было припорошено мраморной пылью, которую не заметили подметальщики.
– Давайте почтим память Уолтера Деверё, – заговорил священник.
Когда он закончил бормотать молитвы, вперед вышел Роберт.
– Я хотел написать стихотворение в честь моего брата, – сказал он. – Весть о его гибели мне принесли, когда я лежал в горячке во Франции, и я был так плох, что уж думали – я отправлюсь следом за ним и придется везти домой два гроба. Я остался жив, но у меня не получилось найти слова, чтобы сложить достойное его памяти стихотворение. Поэтому я прочту то, которое написал не я.
Он закрыл глаза, словно собрался озвучить слова, выбитые перед его мысленным вздором.
Мой зов услышан, все ж не пересказан,
Мой плод опал, все ж зелен ствол и прям,
Мой пыл не юн, все ж старостью не связан,
Я видел мир, все ж был невидим сам.
Нить рвется, хоть не спрядена была.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла…[11 - Чидик Тичборн. Элегия. Здесь и далее перевод А. Парина.]
Голос его задрожал, и он ухватился за край надгробия, чтобы не упасть.
Я смерть искал – нашел ее, родясь,
Я жизни ждал – лишь тень ее настиг,
Я грязь топтал – и знал, что лягу в грязь,
Вот я умру, и вот я жил лишь миг.
Мой кубок полн – и убран со стола.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла.
По очереди мы подошли к надгробию и возложили на него наши венки и приношения. Тягостная церемония была окончена, мы вышли из темной церкви на воздух.
Наступили сумерки, и мы сели вместе за ужин. Мои разлетевшиеся кто куда дети в кои-то веки собрались под одной крышей. Я переводила взгляд с одного на другого, и их взрослые лица расплывались, превращаясь в круглые мордашки, какими были в детские годы. В этом было что-то неожиданно умиротворяющее.
– Это стихотворение, – произнесла Пенелопа. – Где ты его взял, Роберт?
Она аккуратно разрезала кусок мяса, и мне вспомнилось, как девочкой она наотрез отказывалась есть любую еду, если замечала в ней хоть жиринку.
– Это Чидик Тичборн, – ответил он.
– Предатель? – спросил Кристофер сухим тоном.
Роберт вскинул на него испуганные глаза:
– Он был поэтом. Предатель он или нет, мне неизвестно.
– Не прикидывайся простачком. Его казнили за участие в заговоре Бабингтона, – сказал Кристофер.
– В том самом, что раскрыл мой отец! – заговорила вдруг Фрэнсис (да еще так резко, я была поражена). – Роберт, как вы могли произнести его слова на могиле вашего родного брата?
– Когда в ночь перед казнью он писал о смерти, он знал, о чем говорил, – возразил Роберт. – Я сужу его исключительно как поэта.
– Тогда ты просто глупец. Никогда так больше не поступай. Что, если королева услышит, что ты цитируешь человека, который намеревался ее убить? – сказала Пенелопа. – Ты хочешь навлечь несчастье на всю семью?
– Я не думаю, что она оскорбилась бы, – не сдавался Роберт.
– Она оскорбляется гораздо легче, чем все, кого я знаю, – заметила я и тут же задалась вопросом, не передаст ли ей какой-нибудь шпион мои слова; впрочем, я все еще пребывала в том состоянии, когда мне было все равно, что со мной будет. – Она запретила мне появляться при дворе, и запрет этот действует до сих пор, несмотря на то что камень преткновения мертв, а я ее близкая родственница. Она по-прежнему гневается на Дороти. Что же до прочих ее обид и недовольств, список их так длинен, что я не смогла бы перечислить их все.
– Даже если бы и смогли, я бы вам этого не советовала, – тихо произнесла Дороти.
– «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенесть слово твое, и крылатая – пересказать речь твою»[12 - Екк. 10: 20.], – процитировала Фрэнсис. – Покуда был жив мой отец, он был той птицей, что летала к королеве. А теперь мы не знаем, кто эти птицы.
– Смерть вашего отца стала огромной потерей как для королевы, так и для всех нас, – сказал Роберт, накрывая ее руку своей. – Перед тем, кто восполнит ее, королева будет в большом долгу.
Роберт делает тонкие политические наблюдения; Фрэнсис высказывается вслух. Это что-то новенькое. Я их недооценивала или они изменились?
После ужина мои девочки – я по привычке называла их так, хотя обеим было уже под тридцать, – ускользнули куда-то вдвоем, оставив мужчин, Фрэнсис и меня перед камином в покоях. Теперь, когда семейная церемония была окончена, к нам присоединился Фрэнсис Бэкон и еще один мужчина, который был мне незнаком.
– Мой брат Энтони, – произнес Фрэнсис, подталкивая его вперед.
Мужчина, тяжело припадая на одну ногу, приблизился ко мне:
– Это огромная честь для меня, леди Лестер.
Мне позволили сохранить самый высокий из моих титулов, графини Лестер, вместо того чтобы низвести до простой леди Блаунт, жены скромного рыцаря. Голос у него был тонкий и скрипучий одновременно, как будто звук проделывал долгий путь из впалой груди наружу.
– Милорд, – добавил он с поклоном, обернувшись к Роберту.
– Добро пожаловать, – сказал Роберт.
Взяв на себя роль хозяина, он словно даже держаться стал увереннее.
– Энтони только что вернулся из Франции, как и вы, дорогой Роберт, – сказал Фрэнсис (в отличие от брата, его голос был звучным, сильным и соблазнительным). – Вы служили королеве на поле боя, в то время как он служил ей в более сомнительных областях. Ему повезло быть… связанным… с делом вашего покойного отца, Фрэнсис.
– Значит, он был шпионом? – уточнила Фрэнсис. – Прошу вас, выражайтесь без экивоков. Здесь нет птиц, которые летают ко двору.
Да что на нее сегодня нашло? Неужто решила примерить плащ покойного отца?
– Я недостоин так называться, – сказал Энтони, с трудом держась на ногах.
Я сделала Роберту знак придвинуть гостю кресло, в которое тот упал с облегчением на лице. Он явно чувствовал себя не лучшим образом.
Одетая менее роскошно, чем сестра, она выглядела столь же ослепительно. Волосы у нее были светло-рыжие, а черты лица правильнее, чем у Пенелопы, чей нос, хоть и изящный, был несколько длинноват.
К сожалению, недавнее материнство нисколько не украсило Фрэнсис Уолсингем; про себя я всегда буду называть ее так и никогда – Фрэнсис Деверё. Внешность ее по-прежнему была настолько невыразительной, что ее сложно было описать. Как отличить одну ничем не примечательную женщину от тысяч других в точности таких же? Ее дочь от Филипа Сидни выглядела такой же бесцветной; если и была какая-то надежда, что с возрастом девочка станет более миловидной, то теперь она растаяла как дым. Вылитая мать. Ее сын от Роберта, мой внук Роберт, был очаровательный малыш, но ему едва исполнился годик, в этом возрасте все дети очаровательны. Я только надеялась, что внешность моего сына в итоге все-таки возьмет верх над невзрачностью Фрэнсис.
– Пора.
В зале появился домашний священник, очень серьезный молодой человек. Мы молча двинулись следом за ним в капеллу. Небо было затянуто облаками; ветви деревьев по-прежнему голы. Между каменными плитами, которыми была вымощена дорожка, хлюпала грязь.
Кристофер, шедший рядом, взял меня за руку. В это трудное время он был безучастным наблюдателем, не зная, как помочь мне пережить боль утраты. Я простилась с той частью моей жизни, которую вела до того, как мы с ним познакомились.
Мы вошли внутрь. День был пасмурный, и сквозь мутные оконца почти не просачивался свет. В полумраке белело надгробие; бросалась в глаза свежая надпись. Резчики только что закончили с эпитафией, и основание было припорошено мраморной пылью, которую не заметили подметальщики.
– Давайте почтим память Уолтера Деверё, – заговорил священник.
Когда он закончил бормотать молитвы, вперед вышел Роберт.
– Я хотел написать стихотворение в честь моего брата, – сказал он. – Весть о его гибели мне принесли, когда я лежал в горячке во Франции, и я был так плох, что уж думали – я отправлюсь следом за ним и придется везти домой два гроба. Я остался жив, но у меня не получилось найти слова, чтобы сложить достойное его памяти стихотворение. Поэтому я прочту то, которое написал не я.
Он закрыл глаза, словно собрался озвучить слова, выбитые перед его мысленным вздором.
Мой зов услышан, все ж не пересказан,
Мой плод опал, все ж зелен ствол и прям,
Мой пыл не юн, все ж старостью не связан,
Я видел мир, все ж был невидим сам.
Нить рвется, хоть не спрядена была.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла…[11 - Чидик Тичборн. Элегия. Здесь и далее перевод А. Парина.]
Голос его задрожал, и он ухватился за край надгробия, чтобы не упасть.
Я смерть искал – нашел ее, родясь,
Я жизни ждал – лишь тень ее настиг,
Я грязь топтал – и знал, что лягу в грязь,
Вот я умру, и вот я жил лишь миг.
Мой кубок полн – и убран со стола.
Вот я живу, и вот вся жизнь прошла.
По очереди мы подошли к надгробию и возложили на него наши венки и приношения. Тягостная церемония была окончена, мы вышли из темной церкви на воздух.
Наступили сумерки, и мы сели вместе за ужин. Мои разлетевшиеся кто куда дети в кои-то веки собрались под одной крышей. Я переводила взгляд с одного на другого, и их взрослые лица расплывались, превращаясь в круглые мордашки, какими были в детские годы. В этом было что-то неожиданно умиротворяющее.
– Это стихотворение, – произнесла Пенелопа. – Где ты его взял, Роберт?
Она аккуратно разрезала кусок мяса, и мне вспомнилось, как девочкой она наотрез отказывалась есть любую еду, если замечала в ней хоть жиринку.
– Это Чидик Тичборн, – ответил он.
– Предатель? – спросил Кристофер сухим тоном.
Роберт вскинул на него испуганные глаза:
– Он был поэтом. Предатель он или нет, мне неизвестно.
– Не прикидывайся простачком. Его казнили за участие в заговоре Бабингтона, – сказал Кристофер.
– В том самом, что раскрыл мой отец! – заговорила вдруг Фрэнсис (да еще так резко, я была поражена). – Роберт, как вы могли произнести его слова на могиле вашего родного брата?
– Когда в ночь перед казнью он писал о смерти, он знал, о чем говорил, – возразил Роберт. – Я сужу его исключительно как поэта.
– Тогда ты просто глупец. Никогда так больше не поступай. Что, если королева услышит, что ты цитируешь человека, который намеревался ее убить? – сказала Пенелопа. – Ты хочешь навлечь несчастье на всю семью?
– Я не думаю, что она оскорбилась бы, – не сдавался Роберт.
– Она оскорбляется гораздо легче, чем все, кого я знаю, – заметила я и тут же задалась вопросом, не передаст ли ей какой-нибудь шпион мои слова; впрочем, я все еще пребывала в том состоянии, когда мне было все равно, что со мной будет. – Она запретила мне появляться при дворе, и запрет этот действует до сих пор, несмотря на то что камень преткновения мертв, а я ее близкая родственница. Она по-прежнему гневается на Дороти. Что же до прочих ее обид и недовольств, список их так длинен, что я не смогла бы перечислить их все.
– Даже если бы и смогли, я бы вам этого не советовала, – тихо произнесла Дороти.
– «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенесть слово твое, и крылатая – пересказать речь твою»[12 - Екк. 10: 20.], – процитировала Фрэнсис. – Покуда был жив мой отец, он был той птицей, что летала к королеве. А теперь мы не знаем, кто эти птицы.
– Смерть вашего отца стала огромной потерей как для королевы, так и для всех нас, – сказал Роберт, накрывая ее руку своей. – Перед тем, кто восполнит ее, королева будет в большом долгу.
Роберт делает тонкие политические наблюдения; Фрэнсис высказывается вслух. Это что-то новенькое. Я их недооценивала или они изменились?
После ужина мои девочки – я по привычке называла их так, хотя обеим было уже под тридцать, – ускользнули куда-то вдвоем, оставив мужчин, Фрэнсис и меня перед камином в покоях. Теперь, когда семейная церемония была окончена, к нам присоединился Фрэнсис Бэкон и еще один мужчина, который был мне незнаком.
– Мой брат Энтони, – произнес Фрэнсис, подталкивая его вперед.
Мужчина, тяжело припадая на одну ногу, приблизился ко мне:
– Это огромная честь для меня, леди Лестер.
Мне позволили сохранить самый высокий из моих титулов, графини Лестер, вместо того чтобы низвести до простой леди Блаунт, жены скромного рыцаря. Голос у него был тонкий и скрипучий одновременно, как будто звук проделывал долгий путь из впалой груди наружу.
– Милорд, – добавил он с поклоном, обернувшись к Роберту.
– Добро пожаловать, – сказал Роберт.
Взяв на себя роль хозяина, он словно даже держаться стал увереннее.
– Энтони только что вернулся из Франции, как и вы, дорогой Роберт, – сказал Фрэнсис (в отличие от брата, его голос был звучным, сильным и соблазнительным). – Вы служили королеве на поле боя, в то время как он служил ей в более сомнительных областях. Ему повезло быть… связанным… с делом вашего покойного отца, Фрэнсис.
– Значит, он был шпионом? – уточнила Фрэнсис. – Прошу вас, выражайтесь без экивоков. Здесь нет птиц, которые летают ко двору.
Да что на нее сегодня нашло? Неужто решила примерить плащ покойного отца?
– Я недостоин так называться, – сказал Энтони, с трудом держась на ногах.
Я сделала Роберту знак придвинуть гостю кресло, в которое тот упал с облегчением на лице. Он явно чувствовал себя не лучшим образом.